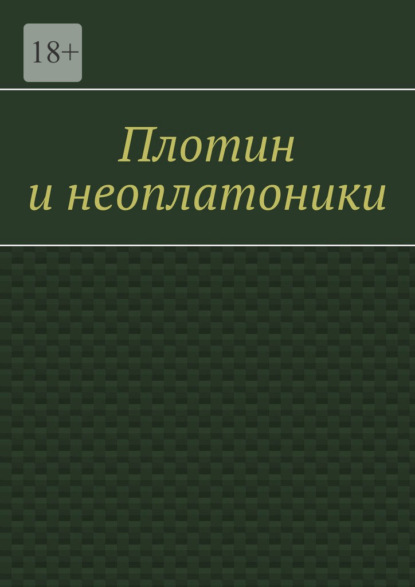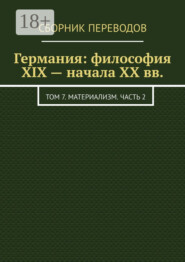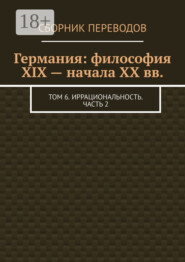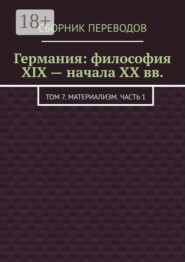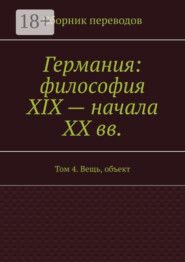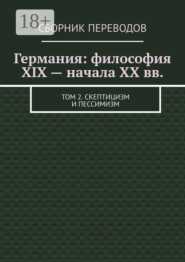По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плотин и неоплатоники
Год написания книги
2024
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Плотин и неоплатоники
Валерий Алексеевич Антонов
Неоплатонизм, возникший в III веке нашей эры, стал одним из ключевых течений философии, углубляясь в изучение природы бытия и человеческого духа. В центре его системы находится идея о Едином – высшей, недоступной разуму реальности, из которой проистекает всё существующее. Неоплатоники, такие как Плотин и Порфирий, подчеркивали важность внутреннего опыта: они утверждали, что истинное познание приходит не через умозрительные конструкции, а через мистическое переживание.
Плотин и неоплатоники
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-8284-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Георг Мелис (1878 – 1942)
Плотин
[Учебник по философии истории]
Предисловие
Философия Плотина стала предметом сравнительно небольшого числа монографий. Если старые историки философии, такие как Брюкер, Теннеманн и Тидеманн, не смогли даже понять дух этого мыслителя, и даже Риттер по существу повторил обвинения в его адрес со стороны рационализма Просвещения, то Гегелю принадлежит заслуга борьбы с рационалистическими предубеждениями против Плотина и первого подчеркивания важности его философии. Однако даже он еще не оценил истинного величия Плотина, а его предпочтение неоплатонику Проклу из-за некоторых формальных сходств между этим мыслителем и его собственной философией отвлекло внимание следующего периода на Прокла и привело к неоправданному отстранению Плотина. Таким образом, только в третьем томе своей «Философии греков» 1852 года Целлер впервые дал действительно полное и всестороннее изложение основных идей Плотина и, с присущей ему объективностью и исторической справедливостью, попытался определить его место в развитии античного мировоззрения. Конечно, он не освободился от старой гуманистической точки зрения, что это развитие достигло своего пика в Платоне и Аристотеле, а все последующее было лишь более или менее глубоким упадком и распадом, и в этом смысле он также осуждал Плотина. Он также недооценил фундаментальный контраст Плотина с послеаристотелевской философией в целом и недостаточно подчеркнул оригинальность достижений этого философа, особенно в сравнении с Платоном. Однако, учитывая зависимость всех последующих историков античной философии от его работ, он своим изложением создал представление обо всем последующем периоде и тем самым восстановил недооценку Плотина по отношению к его предшественникам. И даже интерес к Плотину, возникший в 1850-1860-е годы и породивший ряд выдающихся публикаций по его философии, не смог изменить ситуацию.
Помимо небольших трактатов, особого упоминания в этой связи заслуживает работа Карла Германа Кирхнера «Философия Плотина». Она была опубликована в 1854 году по инициативе конкурса, организованного Берлинской академией в 1847 году, и содержит прекрасное изложение своего предмета, а также остроумные замечания по отдельным специальным вопросам, касающимся плотиновской философии. Несмотря на очевидное стремление к справедливости по отношению к философу, Кирхнер и в этом отношении сильно отстает от истины, и против его взглядов приходится возражать в деталях. Задача, которую поставил перед собой Артур Рихтер в своих «Неоплатонических исследованиях», состояла в том, чтобы устранить эти недостатки своих предшественников и показать Плотина в его истинном величии и в то же время в его актуальном значении для современной спекуляции. Они были опубликованы в пяти отдельных томах в 1864—67 годах, первый из которых посвящен жизни и интеллектуальному развитию Плотина, второй – учению Плотина о бытии и метафизическим основам его философии, третий – теологии и физике, четвертый – психологии и пятый – этике Плотина. Нельзя отказать автору в усердии, тщательности исследований и увлеченности своим предметом. Однако единая картина плотиновской философии с самого начала исключалась из плана его исследований, а пристрастие автора к христианскому догматическому мировоззрению часто мешало ему найти правильную позицию в отношении Плотина. Рихтер раскрыл мотив, который привлек умы к Плотину в вышеупомянутый период и спровоцировал более живое участие в его философии, а именно «основание и развитие идеалистического мировоззрения, которое идет рука об руку с фундаментальными истинами Евангелия», как это в целом желали представители к чему, как правило, стремились представители спекуляции в период расцвета материализма в Германии. То, что эта тенденция, для которой пытались сделать античного мыслителя полезным, не способствовала повышению его авторитета среди непредвзятых умов, пожалуй, не нуждается в дальнейшем обсуждении. Возникновение неокантианства в конце шестидесятых годов, общее презрение, которому подверглись все спекуляции в результате доминирования скептических, агностических и позитивистских тенденций в философии последнего человеческого века, также угасило интерес к Плотину. И поэтому никаких существенных изменений, не говоря уже о прогрессе, в концепции его философии за этот период не произошло. Напротив, метафизически-враждебная, скептическая и агностическая основная черта последнего человеческого века отчасти отбросила оценку Плотина на позиции рационалистического Просвещения до Гегеля, так что изложение его философии, как и неоплатонизма в целом, является одной из самых раздражающих глав в большинстве новейших работ по «истории философии».
Тем временем дух мировоззрения Плотина пережил в философии Хартманна воскрешение, о котором сам автор первоначально не имел ни малейшего представления. Только когда в начале девяностых годов он обратился к более детальному изучению Плотина для «Истории метафизики» и взялся за эссе об «Аксиологии Плотина», Гартман, к собственному изумлению, осознал глубокое внутреннее родство между собой и античным мыслителем, которое распространялось не столько на отдельные конкретные моменты, сколько на некоторые общие черты, сходство характера их философии и положения их взаимного мировоззрения по отношению к предшествующим спекуляциям. Следствием этого стало то, что раздел о Плотине в его «Истории метафизики» стал самым подробным и блестящим и что в нем, впервые в Германии, истинное значение Плотина для умозрения получило соответствующее выражение.
Гартман рассматривал философию Плотина исключительно с точки зрения теории категорий. В настоящей работе предпринята попытка обосновать значение Плотина как в обратном, так и в прямом смысле слова в изложении всего его мировоззрения. Она стремится показать, как в его философии сходятся в единое целое нити предшествующей философской мысли и как истины его предшественников оказываются отмененными как непреходящие. Таким образом, полностью опровергается прежнее мнение о том, что высшая точка античной спекуляции была достигнута Платоном и Аристотелем и что мировоззрение Плотина было лишь философией упадка, и вместо этого ему отводится высшее место во всем развитии античной мысли. Однако в то же время он стремится выявить связи, ведущие от него к философии нового времени и современности, и тем самым открывает новый взгляд на исторический ход философской мысли, который, как кажется, способен развеять ряд прежних предрассудков. Утверждение Рихтера об актуальном значении Плотина для современности подтверждается, но, конечно, не в смысле «возрождения христианского мировоззрения в наш материалистический век», а скорее наоборот, в смысле энергичного движения за его пределы, при котором современный материализм и скептицизм также опускаются до подвешенного состояния. Особый акцент автор делает на доказательстве того, что прежний взгляд на Плотина, согласно которому он представляет себя как основателя философии сознания и тем самым, казалось бы, может служить опорой для теизма, никак не соответствует истинному смыслу и духу его мировоззрения. В то же время, говоря о чередовании двух различных родов, играющем столь важную роль в учении Плотина о принципах, он полагает, что указал на ключ, который отпирает понимание всей философии со времен Платона и на котором в своей глубочайшей сущности основывается не только рационализм, но и современная философия сознания. Если до сих пор все призывы, сколь бы настоятельными они ни были, к пересмотру основной концепции современной мысли оставались неуслышанными, то, возможно, настало время больше не молчать и занять твердую позицию в вопросе о том, может ли сознание действительно быть бытием в смысле независимого, оригинального и существенного существа.[1 - На этот антропопатический характер греческой натурфилософии недавно решительно указал Карл Йоэль в своей прекрасной книге «Der Ursprung der Naturphilosophie aus demGeiste der Mystik» (Eugen Diederichs Verlag, 1906). «Натурфилософы приходят к природе не столько через непосредственное созерцание, сколько через символизм, через визуализацию, пластификацию своего чувства жизни, через поиск контакта, параллели между духовным и физическим». p. 105, ср. особенно 66—116.]
Наконец, несколько слов о существующих переводах Плотина на немецкий язык! Мы располагаем полным переводом «Эннеад» Германа Фридриха Мюллера, которому предшествует перевод биографии Плотина, сделанный Порфирином. Изданный в двух томах в 1878 и 1880 годах, он не столько подчеркивает красоту, сколько максимально точно передает мысли Плотина, и, что бы ни возражали против него в деталях, он незаменим для более детального изучения философа. Отто Кифер недавно опубликовал текст «Эннеад» Плотина, написанный не слишком абстрактно и максимально понятный для широких кругов, с учетом всего, что было опубликовано до сих пор в области передачи Плотина на немецком и французском языках Ойгеном Дидерихсом (1905). Естественно, она рассчитана не столько на строго научного исследователя, способного изучить своего Плотина в оригинале, сколько на большинство образованных людей нашего времени, в которых жива жажда интериоризации и спиритуализации нашей религии. Написанный с большим энтузиазмом и максимально возможным пониманием своего предмета, этот перевод часто читается почти как оригинал. Поэтому автор настоящей работы с благодарностью воспользовался возможностью привести более длинные дословные цитаты из Плотина после текста Кифера.
Карлсруэ, июль 1907 г.
Профессор д-р Артур Дрюс
Введение
Развитие античной философии до Плотина.
История философии есть история борьбы человеческого разума за истинное понятие о духе. В этом великом процессе развития перед греками стояла самая трудная задача. Ведь они были еще в начале процесса, им еще не было ясно, куда направлено развитие, какие задачи должен решить разум, какие средства и способы он должен для этого использовать, они должны были сами с трудом обрести это понимание в ходе развития; и прежде всего вся их собственная природная предрасположенность в принципе не благоприятствовала достижению этой бессознательной цели. Ведь сами греки всем своим мышлением были укоренены в природе. Они жили и дышали непосредственно осязаемой реальностью вещей. Их ясный, устремленный вдаль взор был полностью очарован внешними проявлениями чувств. Их разум чувствовал удовлетворение в объективном. Пластическое чувство и художественное восприятие указывали им на существование мира материальных внешних объектов. Они также знали душу и дух только как объективные природные реальности и еще ничего не знали о различии между идеальным и реальным бытием, о контрасте между сознанием и существованием.
Греческая философия наполнена стремлением постичь реальное или сущностное основание вещей непосредственно с точки зрения чувственного наблюдения и восприятия. Этот эпистемологический наивный реализм и метафизический индифферентный монизм составляет основную предпосылку всей натурфилософии от Фалеса до Анаксагора, а именно: мысль и бытие, взятые в смысле природной, чувственно-материальной реальности, непосредственно тождественны. Различные взгляды мыслителей, относящиеся сюда, представляют собой лишь столько же различных попыток понять ощутимое и объективное как истинно реальное, как основание и сущность всех вещей, будь то у Фалеса в форме воды, у Анаксимандра в бесконечно протяженной субстанции мира, у Анаксимена в воздухе, у Гераклита в огне, у Эмпедокла в четырех стихиях или у атомистов в мельчайших материальных составных частях действительности. Только Пифагор и элеаты, кажется, приближаются в своем мышлении к понятию чистого духа, свободного от всякой естественности. Но если последний объявляет число основой вещей, божественной силой, управляющей миром, то и здесь перекос в общегреческом образе мышления проявляется в том, что число невольно вырастает до материального существа, основания в субстанциальном смысле, «вещества» самих предметов; И даже Парменид не идет дальше приравнивания своего неопределенного Единого, которое он противопоставляет множественности и детерминированности эмпирического бытия как единственного истинно существующего, к физической реальности вещей, к материальности как таковой. Анаксагор впервые объясняет дух в смысле нуса или разума как принципа, упорядочивающего и определяющего мир, но, со своей стороны, все еще представляет нус совершенно натуралистически, как материальное, воздухоподобное существо, и, таким образом, еще не преодолевает почву прежней натурфилософии.
Фундаментальное противоречие всей этой школы состояло в том, что, будучи философией, она была вынуждена определять бытие через мышление, через понятийную обработку данного материала, и в то же время предрасположенность греческого народа не позволяла ей приписывать бытию что-либо иное, кроме чувственного определения. Эта философия исходила из того, что сущность вещей должна быть обнаружена где-то во внешнем мире, в сфере чувственно воспринимаемого. Поэтому она искала основание вещей в природе и считала природную субстанцию сущностью; в этом заключался ее натурализм. Теперь все возможности решения мировой проблемы из этой предпосылки были испробованы, но прежняя натурфилософия так и не пришла к согласию относительно истинного бытия. Наивное предположение, что органы чувств способны открыть нам сущность вещей, должно было уступить место осознанию элеатами и Гераклитом того, что непосредственное чувственное восприятие не может дать нам сущностного знания. Однако утверждение разума как истинного принципа познания противоречило само себе до тех пор, пока сохранялось тождество бытия и мышления, а бытие определялось как чувственная реальность. Ведь тогда либо эта реальность должна была смириться с тем, что разум осуждает ее за противоречивость и сводит к простой видимости, либо разум должен был признать свою неспособность познать противоречивую неразумную реальность собственными средствами. Если физическое бытие и мышление – одно и то же, то в конечном счете дело вкуса, личного произвола или склонности характера – сделать ли из всех возникающих несоответствий вывод о нереальности бытия или о неспособности мышления отдать должное бытию. Первое было сделано элеатами и нашло свое наиболее резкое выражение в диалектике Зенона. Вторым занимались софисты. В обоих случаях, однако, скептицизм был неизбежным следствием выбранной отправной точки.
Из противоречия между чувственным восприятием и разумом победителем вышел последний, но не объективный разум, как Нус Анаксагора, а субъективный разум философа, который сам вначале совершил это противоречие. Анаксагор объявил Нус определяющим принципом реальности и рассматривал миросозидающую силу как выражение его сущности. Софисты согласились с ним в том, что реальность – дело рук мыслящего существа; но поскольку они утверждали, что ничего не знают об объективной реальности, Нус совпадал с конечным разумом, эго, как носителем и творцом мира. Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир по-настоящему.
Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир из природы, а молчаливо основывает свою концепцию природных принципов на опыте внутренней жизни души, что предполагаемое тождество бытия и мышления в истине уже означает преобладание мышления над природным бытием. Реализации бытия как такового не существует, есть только такая реализация из субъективной природы мышления. Человек, – учит Протагор, – есть мера всех вещей». 1) Отчаявшись в возможности прийти к чисто объективному знанию о мире, софисты отвергли всякое умозрение и противопоставили мир самому себе, теоретическое постижение внешней реальности – практическому утверждению собственного непосредственного «я». Тем самым они порывали со всей натурфилософией, открывая субъективный дух в его отличии от природы и превосходстве над объектами внешнего бытия. То, что из обилия природных явлений софисты извлекли и объявили суверенным только субъективный разум, что основанная ими «свобода разума» была, таким образом, лишь чисто формальной, связанной с субъективным произволом и прихотью, и что провозглашенная ими автономия влекла за собой отказ от всякой морали, было недостатком и сомнительной стороной всего этого направления. Но как могли софисты найти самость в чем-то более глубоком и фундаментальном, чем их собственное эго, ведь натурализм, на преодоление которого было направлено все их мышление, все еще был слишком глубоко в их крови, чтобы они могли найти основание бытия где-то еще, кроме непосредственной эмпирической реальности? Софисты разрушили и подорвали объективный натурализм внешней природы, чтобы заменить его субъективным натурализмом собственного «я».
Это была лишь противоположная односторонность, но она была необходима для того, чтобы выйти за пределы природы вообще, как внешней, так и внутренней, и в то же время это был шаг неизмеримого значения, поскольку эго софистов было на самом деле ближе к истинному принципу духа, чем чувственная материальность и внешняя объективность натурфилософов. – Великий поступок Сократа заключался в том, что, чтобы нейтрализовать пагубные последствия нового открытия, он обратился к изучению самой человеческой мысли. В этом Сократ походил на софистов, поскольку в явном противостоянии чувственного восприятия и мышления принимал сторону мысли и понимал субъективность, которой определяется объективный мир, как превосходящую объективную природу. Но он не представлял себе субъективность, как они, как суверенное «я» и носителя мысли; поэтому он также не приписывал ей право и способность обращаться с мыслями по произвольной прихоти и желанию, а определял саму мысль как содержание субъективности, а понятие – как руководящий принцип мыслительной деятельности. Софисты понимали «познание себя» в смысле genitivus subjectivus, то есть они уступали эго суверенитет его способа выражения также и в отношении познания и делали акцент на понятии «я» или «эго». Сократ, напротив, делал акцент на понятии знания и понимал genitivus «самости» как genitivus objectivus в том смысле, что самость образует реальный объект человеческого знания. Тем самым он избавил почву от пагубного субъективизма и эгоизма софистов. Ведь, согласно ему, уже не Я определяет, что истинно, а что ложно, а только правильное понятие вещи решает, истинно ли относящееся к ней знание. Только знание понятия является истинным знанием, только знание, сформированное на основе правильных понятий, может по праву называться знанием. Первым это сказал Сократ: К знанию и истине ведет не внешняя чувственно обусловленная объективность природы, а лишь внутренняя необходимость мышления. Софисты правы, когда говорят, что окончательное решение о природе бытия принадлежит «я», как носителю и субъекту мысли; только тогда это «я» передает истинное знание, если оно самоотверженно подчиняет себя природе понятия.
Субъективность, к которой софисты отступили по отношению к внешней природе, углубляется у Сократа настолько, что сама вновь предстает как объективность, но теперь уже не как внешняя, чувственная, природная объективность, а как нечувственная, внутренняя объективность духа. Если софисты учили, что человек есть мера всех вещей, то Сократ согласен с ними в этом, но с тем дополнением, что речь идет не о том или ином человеке в его случайной частности, а о человеке мыслящем, о человеке в той мере, в какой он, как мыслящий субъект, действует на себя как нечто объективное и общее. Если софисты растворяли всю объективную истину в простой игре субъективных идей, то Сократ совершает прорыв к надиндивидуальной объективности понятия. Таким образом, Сократ открывает для мышления сферу, которая столь же объективна, как природа, столь же духовна, как эго, одним словом: царство объективного духа. Таким образом, он действительно является, как назвал его Ницше, хотя и по-другому, «вихрем и поворотным пунктом мировой истории». Ведь факт существования царства объективного духа – это величайшее открытие, которое когда-либо делал мыслящий человек в своем исследовании бытия, величайшее, по крайней мере, открытие, благодаря которому греческий дух, в своем наивном погружении в природу, смог получить приз нетленной славы.
С осознанием понятия как чего-то объективного и всеобщего, нормам которого должен был подчиниться даже самый крайний субъективист, софистика была преодолена. Тем самым была пройдена та мертвая точка, до которой софисты дошли в своем последовательном стремлении к предпосылкам греческой мысли. Платон создал прочный фундамент для открытого Сократом царства объективного духа, противопоставив субъективной воле человека и нелогичной реальности природы мир вечных идей, то есть независимых и метафизически абсолютизированных понятий Сократа, как нечто абсолютно логичное и нормативное. Таким образом, впервые в западной мысли духовное как особый вид бытия было принципиально отграничено от бытия природных объектов и вышло за их пределы как высшее. То, что мышление и бытие тождественны, – эта основная предпосылка всей предшествующей философии – была признана еще Платоном. Но если раньше она понималась только в натуралистическом смысле, как если бы мы имели перед собой реальность par excellence в чувственно воспринимаемом мире и постигали ее непосредственно в мышлении, то у Платона она приобрела значение, что мы обладаем истинной реальностью только в самой мысли.
Понятие не является, как утверждал Сократ, простым субъективным средством познания бытия, но оно есть само бытие, оно есть в то же время внутренне существующий объект познания. Сократ довольствовался тем, что вернул мышлению, выродившемуся в произвол и игривость софистики, его сущность, вернул ему утраченную объективность, освободил его от чувственных примесей, вызвавших это вырождение, с помощью искусства концептуализации и тем самым заново поддержал колеблющуюся нравственность своего народа. Для Платона моральное разложение уже казалось столь значительным, что ему было недостаточно просто восстановить эпистемологическое преимущество мысли над чувственным восприятием, которое уже признали натурфилософы: он прибег к насильственному средству – отрицанию объекта восприятия, чувственно-природного бытия, вообще. Естественная реальность, утверждал он вместе с элеатами, – это не просто неполноценная реальность, это вообще не истинная реальность; единственная истинная реальность – это реальность понятия. Это был полный разрыв с сущностью эллинского разума, полный переворот всех обычных представлений о вещах, оставивший позади даже акосмис- тическую концепцию мира Парменида, поскольку последний, как я уже говорил, не сомневался в реальности физического как такового. То, что впервые начал Сократ, еще не осознавая его последствий, Платон завершил: он освободил разум в его чистоте, он вырвал прежнюю почву из-под ног мышления своего народа, он открыл тем самым совершенно новую страницу в истории греческого и западного интеллектуального развития.
Исходя из мысли, что истинное понятие одновременно является истинным бытием и определяет эмпирическую реальность, перед Платоном встала задача доказать его как объективный prius и доэмпирическую детерминанту опыта. Из того, что понятие есть одновременно субъективное средство познания истинного бытия, вытекала и другая задача – дать доказательство абсолютной истинности понятия. Та задача была метафизической, эта – эпистемологической или методологической. Там речь шла о том, чтобы продемонстрировать метафизическое опосредование понятия и мира видимостей или, скорее, определяемого им иллюзорного мира, показать, как объективное понятие, «идея», и опыт, такой как дух и природа, могут быть взаимосвязаны и образовывать единую реальность, несмотря на их контрастную природу. Здесь, с другой стороны, речь шла о том, чтобы показать путь от опыта к понятию, сделать понятным, как субъективное понятие может быть одновременно объективным или как понятие, которое мы имеем об истинном, само может быть абсолютной истиной. У Платона эти две совершенно разные задачи все же проходят отдельно друг через друга; и это отсутствие разделения определяет характер его философии. В центре ее – «понятие бытия». Но этот генитив можно понимать и как genitivus subjectivus, и как genitivus objectivus, имея в виду и объективную понятийную природу бытия, и субъективное его познание. Платон, однако, не учитывает этого различия. Он постоянно путает метафизический смысл понятия с его эпистемологическим смыслом, субъективное мышление философа об объективных мыслях с самими этими мыслями; из-за этого вся его философия выглядит как сизифов труд.
Согласно Платону, понятие, которое философ имеет о бытии, есть в то же время понятие, которое имеет или, скорее, есть само бытие, бытие как понятие, тождество бытия и понятия: понятие бытия есть бытие понятия. Эрос», энтузиазм философского знания, который переносит человека над миром чувств в сферу мира идей, который дает ему непосредственное видение его содержания, «интеллектуальное видение» идеи, есть не что иное, как этот генитив в его одновременно объективном и субъективном значении; Это лишь символическое выражение того факта, что вся предполагаемая непосредственность познания истинно существующего и основанная на ней аподиктическая уверенность базируется на созвучии и двойном смысле одного и того же генитива. Представление и объект, познание и бытие подходят друг к другу как бы с двух разных сторон и сливаются в одном понятии. Платон, однако, не в состоянии прояснить, как метафизическое понятие или идея, будучи доэмпирической детерминантой природного бытия, может соотноситься с ним, формировать его и сливаться с ним в единство, и ему не удается доказать, что эпистемологическое понятие, которое как таковое выводится из опыта и потому является более поздним, чем он, тождественно с метафизическим понятием. Но от этого тождества зависит судьба всей платоновской философии, поскольку понятие может претендовать на абсолютную истину только в том случае, если оно, будучи субъективным, одновременно является объективным, или если мышление и бытие непосредственно совпадают в человеческом познании.[2 - Ср. глубокую и формально превосходную работу Леопольда Циглера: «Рационализм и эрос» (Eugen Diederichs, 1905): «Der Rationalismus der Antike und sein Erkenntnisproblem».]
Идеализм состоит в утверждении, что понятие есть истинная сущность и в то же время истинная реальность; рационализм Платона состоит в утверждении, что субъективное понятие в то же время объективно в своей истинности. Оба утверждения, однако, являются лишь различными отражениями его предположения о непосредственном тождестве бытия и мышления и выражают две задачи, которые человеческий разум видел перед собой в приобретении понятия духа как отличного от природы.
Аристотель стремится решить описанную выше метафизическую задачу и преодолеть установленное Платоном противопоставление духа и природы, вновь объявив их тождественными. Он отличает их друг от друга только как форму и субстанцию и представляет субстанцию как изначально бесформенный и неопределенный субстрат или основу вещей, которая определяется изнутри мыслью и формируется в различные качества. Мышление объектов со стороны философа является для него мышлением объектов в смысле genitivus subjectivus. Для него сущность объектов заключается в мышлении, причем таким образом, что неопределенная субстанция побуждает имманентное ей объективное мышление развернуть свои детерминации и тем самым придать ей определенную форму, подобно тому как наше субъективное мышление побуждается к активности «изумлением» перед противоречиями или немыслимым, то есть материальным, характером реальности. Однако вместо того, чтобы предложить реальное решение проблемы, он лишь возвращается к позиции первоначального натурализма до Платона. Ведь утверждаемое таким образом тождество разума и природы было именно догматической предпосылкой прежней философии, за исключением того, что то, что до сих пор считалось наивной самоочевидностью, было сознательно объявлено Аристотелем сущностью самой материи.
Таким образом, Аристотель также не оказал существенного содействия в понимании природы разума; более того, авторитет этого философа оказался камнем преткновения в последующие времена и в конечном итоге виноват в том, что и сегодня нет полного единства в отношении концепции разума, а натуралистическое объединение природы и разума по-прежнему вновь и вновь присваивает себе философское значение. Ведь вопрос заключается именно в том, как мысль и субстанция могут образовывать непосредственное единство. Аристотель ничего не вносит в решение этого вопроса, когда наряду с объективным мышлением предметов, мышлением, замутненным материей, он предполагает так называемое чистое мышление, мышление мышления как первоисточник и цель всего процесса мышления-мира. Но и другая, эпистемологическая задача не была решена самыми напряженными усилиями Аристотеля. Ибо хотя этот философ совершенно справедливо признавал, что абсолютная истина может быть получена только дедуктивным путем, исходя из высшего понятия бытия, он не смог показать, как можно прийти к этой высшей предпосылке дедукции иначе, как индуктивным путем, восходя от опыта, и как можно таким путем установить абсолютную истинность этой предпосылки, без которой даже то, что из нее выводится, не имеет безусловной достоверности. Мышление о предметах со стороны философа и предметы мышления или метафизические реальности остаются двумя разными вещами. Поэтому, однако, достижение абсолютной истины для философского знания представляется безнадежным. —
В этих условиях от философии после Аристотеля, остающейся во всем зависимой от него и Платона, конечно же, нельзя ожидать существенного прогресса в решении фундаментальной философской проблемы. Эта философия либо скатывается еще дальше, чем Аристотель, с высоты достигнутой им точки зрения и приближается к первоначальному натурализму еще ближе, чем тот, либо вообще отказывается от возможности решения поставленных задач и отворачивается от умозрения. Таким образом, это отчасти метафизический догматизм, т. е. Он придерживается, не исследуя самой этой предпосылки, предположения о непосредственном тождестве духовной и материальной или телесной реальности, за исключением того, что не рассматривает, подобно Аристотелю, природу как по существу духовное существо, а, наоборот, дух, как натурфилософия до Сократа, как природное существо; отчасти он отрицает, что вообще возможно определить природу реальности без противоречия, и тем самым снова подходит к позиции софистики. Первую точку зрения разделяют стоицизм и эпикурейство, вторая – мнение скептицизма. Однако все трое сходятся в том, что теоретическое знание интересует их лишь постольку, поскольку оно может служить основой для практического или морального поведения и способствовать человеческому счастью. Вопрос, который уже лег в основу платоновской спекуляции в качестве невысказанной предпосылки, а именно: как должно быть понято реальное, чтобы быть непоколебимой детерминантой морального, – прямо ставится ими во главу своих исследований и придает всей их философии сугубо практический характер.
Стоики, вслед за Гераклитом, полностью трансформируют аристотелевское учение о принципах с его противопоставлением формы и вещества в натуралистическом смысле: они отрицают нематериальность и духовность принципа формы, а значит, и существование чистой мысли вне вещества, как утверждал Аристотель, и таким образом приходят к решительному монизму, который является столь же решительным материализмом. Их эпистемологическая позиция – наивный сенсуализм, выводящий мысль из восприятия, но они не могут отрицать, что восприятие получает свою достоверность только через мысль, и не знают, как выкрутиться из круга с этой уступкой рационализму. Эпикурейцы просто возобновляют атомизм Лейциппа и Демокрита, а также застревают в чистом сенсуализме в плане эпистемологии. Опору морали и счастья они находят в вере в провидение и целенаправленную организацию мирового устройства, за которую они наивно цепляются вопреки своему натуралистическому монизму. Они находят ее в отрицании всякой сверхъестественной реальности и объективной цели, в исключительном признании законности и идее подчинения естественному ходу вещей.
Но как? Если блаженство, как полагают и стоицизм, и эпикурейство, состоит в свободе субъекта, в независимости личности от всего, что не есть она сама, в ее неограниченной самостоятельности, то нужно ли здесь мировоззрение, теоретическое проникновение во внутреннюю связь вещей? Можно подумать, что высшая независимость человека гарантирована только тогда, когда он свободен и от всякого мировоззрения, когда вообще не существует объективных норм, через которые можно было бы определить прозрение человека в их природу, которые он мог бы принять за руководство для своего практического поведения. Такова точка зрения скептицизма.
В различных своих формах скептицизм утверждает относительность всех наших знаний и невозможность на их основе постичь природу реальности. Старший скептицизм Пирра, по-видимому, не выходил за рамки некоторых общих утверждений о невозможности познания и не углублял существенно соответствующие взгляды софистов. Средний скептицизм Платоновской академии был направлен главным образом против стоиков и стремился вырвать у них предполагаемое решение платоновской проблемы, оспаривая их эпистемологические принципы и метафизические концепции. Аркесилай и Карнеад отвергали стоический сенсуализм с его наивной реалистической верой в истинность чувственного восприятия. Карнеад показал несостоятельность стоической веры в провидение, вскрыл противоречия в концепции Бога стоиков и даже подверг критике их этику, тем самым разрушив основные столпы стоического мировоззрения. То, что средний скептицизм оставил от позитивных взглядов, младший скептицизм прояснил. Вся философия после Аристотеля придерживалась предпосылки, что реальное – это материальное или телесное; только с этой точки зрения скептики направили свою атаку против познания истинного бытия. Секст, прозванный Эмпириком, показал несостоятельность и этой предпосылки, доказал немыслимость причинно-следственной связи между телами и своей критикой разрушил само понятие тела, продемонстрировав, что тело нельзя ни воспринимать, ни даже мыслить. Таким образом, скептицизм не только разрушил позиции постклассической философии, но и сам фундамент, на котором древние изначально строили свою философию, был подорван скептиками, и вся гордая постройка античного мировоззрения была разрушена во всех своих частях. Невозможно постичь реальность с точки зрения чувственного восприятия. То, что воспринимается органами чувств, материально или телесно; но понятие о нем непостижимо, как непостижимо и всякое воззрение, которое так или иначе подразумевает существование материального существа и приписывает телу подлинную реальность. Чувственное, телесное существование не является чем-то существенным и реальным, потому что его понятие чревато противоречием. Но поскольку чувственное существование – это единственное существование, которое существует, если восприятие объявляется источником знания, мы не можем распознать реальное и существенное.
Раскол, вошедший в мир через Платона, действительно оказался неизлечимым. Не имея возможности преодолеть противопоставление духа и природы иначе, чем путем утверждения их непосредственного тождества, понятие духа было уничтожено вместе с понятием природы, и мысль, таким образом, была обречена на полный нигилизм. Понятие «бытие», которое у Платона имело одновременно субъективный (эпистемологический) и объективный (метафизический) смысл, было возвращено к своему чисто субъективному смыслу после того, как стало ясно, что наглядное физическое бытие не может быть постигнуто. Философия, по сути, вернулась к позиции софистов. Этот результат, однако, был тем более губителен для античного разума, что его объективное мышление принципиально не могло быть полностью оторвано от зрения. Даже Платон смог прийти к своей концепции мира идей, отличного от природной реальности, лишь представив сверхчувственные идеи как объективные фигуры или формы, существующие сами по себе, которые, если не чувственно, то, во всяком случае, интеллектуально могут быть созерцаемы нами в предродовой жизни; таким образом, он снова приписал духовной сущности некую естественность. Однако Аристотель, а тем более его преемники, полностью вернулись к первоначальному греческому взгляду, рассматривая дух как естественное, чувственное, физическое существо. Поэтому это было не что иное, как не что иное, как гибель самого античного духа была предрешена, если теперь выяснилось, что объективное мышление вовсе не способно не способно проникнуть в истинную реальность. Существовала ли вообще истинная реальность и была ли она познаваема познаваема любым разумом?
Скептицизм отрицал это, утверждая, что всякое знание относительно, а относительное, следовательно, не есть нечто внутренне существующее и существенное, а значит, не истинная реальность, а всего лишь мысль. Вся его полемика против понятий причинности и телесности также была лишь частным случаем его основного утверждения, что отношение как внутренне существующая вещь непостижимо. Ведь отношение как таковое не находится ни в одной, ни в другой из двух связанных друг с другом вещей, ни в обеих вместе, ни существует как нечто самостоятельное без связанных вещей. Отношение приложимо только к разуму, только мышление соотносит предметы друг с другом; и только это и есть так называемое знание предметов. Однако наше предполагаемое знание материальной реальности, как хвасталась постклассическая философия, не есть знание вообще, не есть реализация того, что существует само по себе, потому что тела, с их относительной природой, не могут быть чем-то существенным и реальным. – Так неужели нельзя было выйти за пределы скептицизма, который это запечатывало? Всякое мышление движется в отношениях, но всякое отношение держится только на духе. То, что оно держится только на субъективном разуме познающего человека, было молчаливой предпосылкой скептицизма. Но что, если он придерживается вовсе не субъективного, а отличного от него объективного разума, если субъективный разум человека изначально не порождает отношения, а лишь считывает из них архетипические отношения реальности и образно воссоздает их? Тогда существует и подлинная реальность, и познание этой реальности, знание о существующем, пусть даже изначально это не наше знание, а знание объективного духа, который мы должны принять за носителя и субъекта познания реальности. Понятие или «знание о бытии» здесь, как и у Платона, вновь приобретает тот метафизический смысл в смысле genitive subjectivus, который оно все более утрачивало в постклассической философии, с той лишь разницей, что бытие в genitive «о бытии» теперь уже не отождествляется, как у Платона, непосредственно с самим знанием, но отличается от него в смысле действительного субъекта, как носителя знания. Платон тоже определял самосуществующую, сущностную реальность вещей как мысль; но он рассматривал самосуществующие мысли, идеи, как самостоятельные сущности, не зависящие ни от чего другого, существующие сами по себе, которые лишь архетипически представляют физический мир в высшей сфере идеального. Теперь возникает мысль, что архетипические идеи вовсе не являются конечными и изначальными, но что они лишь образуют сверхчувственное основание чувственного существования как детерминации высшего существа, отличного от них самих.
Для Платона объективный дух совпадал с совокупностью Идей, а они сами уже были для него абсолютным бытием. Теперь объективный дух выходит за пределы мира идей как своего основания и носителя, и поскольку он только в этом качестве совпадает с абсолютным бытием, понятие объективного духа расширяется до понятия абсолютного духа. По сути, сущностный смысл античной философии впоследствии раскрывается перед нами как борьба за понятие абсолютного духа. В то же время постановка двух основных проблем, которую мы находим у Платона, приобретает новый вид. Попытки найти путь от объективного, сверхчувственного мира идей к миру опыта, преодолеть пропасть, открытую Платоном между этими двумя мирами, и преодолеть дуализм платоновского мировоззрения, оказались безуспешными. Теперь эта метафизическая проблема приобретает форму вопроса о том, как абсолютный дух привел чувственный мир в бытие посредством мира идей, своей вечной причины, какие еще «посредники» он использовал для этого и каково соотношение между абсолютным и конечным бытием. Но в то же время другая эпистемологическая задача уточняет, с чего должен начать человек, чтобы достичь единства с Абсолютом. Здесь проблема античной философии совпадает с проблемой религии, ибо вопрос об отношении Бога к миру, о единстве человека и Бога составляет также фундаментальный вопрос всей религиозной жизни. Ставя этот вопрос в центр своих дискуссий, философия становится философией религии. -В античности философия не всегда была в дружеских отношениях с религией. С тех пор как элеатский Ксенофан впервые решительно выступил против господствующих в народе верований и сделал мишенью своей критики антропоморфизм и антропопатизм греческой концепции Бога, отношения между философией и народной религией были в основном негативными. Прежде всего, софисты с их едкой диалектикой не щадили мифологическую концепцию политеизма и вместе с Анаксагором пытались истолковать мифы в чисто физических терминах, или, как Продик, в воображаемых одеждах полезных природных объектов, или, как Эвемер, исторически с апофеозом великих людей, а вместе с Протагором отрицали способность смертных говорить что-либо положительное о божественных вещах. Сократ, безусловно, стремился утвердить более чистое представление о Боге и доказать его в жизни своим нравственным поведением; а Платон углубил обычный религиозный мир идей, отождествив божество с идеей блага, философски обосновав личное бессмертие, доктрину очищения души и трансцендентный, сверхчувственный характер своего мировоззрения. Вера стоиков в провидение, их предположение об объективной связи целей и имманентной справедливости мировых событий также носила явно религиозный характер, и они также стремились установить более дружественные отношения с народной религией.
Но их переосмысление мифов в философском смысле и превращение богов в чисто понятийные сущности скорее способствовало равнодушию к традиционным религиозным формам и ускорению процесса разложения народной религии, чем принесло ей какую-либо положительную пользу. Эпикурейцы, несмотря на безразличное отношение своего учителя к религии, не могли, согласно своим принципам, испытывать к богам ничего, кроме открытой насмешки и презрения; и, наконец, скептический отказ от всякого знания и чисто внешнее соблюдение обычных религиозных правил и обычаев, отстаиваемых скептиками, должны были привести к упадку античной религии. Эклектизм, возникший, в частности, с приходом философии в римскую интеллектуальную жизнь и приведший к распаду философии на множество школ и сект, стремился связать взгляды различных школ друг с другом без нового синтетического принципа. При этом он не то чтобы боролся с религией, но и не давал реального удовлетворения религиозному сознанию и, более того, оставался слишком ограниченным кругом образованных людей, чтобы оказывать сколько-нибудь заметное влияние на ход событий, даже там, где он стремился поддержать религию философскими соображениями, как в случае с Цицероном.
В принципе, даже самая серьезная воля и самая мощная интеллектуальная сила не смогли бы остановить упадок античной религии. Ведь она была обречена с того самого момента, когда натурализм с его объединением природы и духа был признан нежизнеспособным, а первоначальная почва религии, как и философии, была отторгнута. Политеистическая народная религия жила и дышала верой в природную сущность и действенность богов. Она просто не могла больше существовать, когда эта вера была поколеблена рефлексией и дух как особое существо поднялся над естественностью. Ибо либо дух, как субъективный дух, должен был возвыситься над миром богов и свести его к продукту своего воображения, либо боги народной религии должны были превратиться в несовершенные символы сверхчувственной духовной сферы и тем самым утратить свою религиозную значимость. Переворот политических условий на Востоке, произведенный Александром Македонским, а затем в районе всего Средиземноморья римлянами, лишь ускорил этот упадок, но не вызвал его изначально. Уничтожив реальную государственную основу древней религии, упразднив национальность народов и уничтожив их независимость и свободу, он закрыл источники своеобразной духовной деятельности и национального выражения жизни и вместе с тем подавил силу религиозной жизни. В духовном плане империя Александра, безусловно, была огромным шагом вперед, поскольку нивелировала различия между народами. Распространение греческого языка создало общую почву для взаимопонимания между ними и внутренне сблизило их.
Римляне также разрушили последние барьеры и перегородки между народами и направили расходящиеся потоки развития в один большой бассейн. Это открыло путь к неведомой доселе древним идее человечества как всеобъемлющего целого, к идее родства и общности интересов всех людей, к которой партикулярное сознание древних общин никогда бы не скатилось само собой. А между тем сама сила и глубина древнего выражения жизни основывалась не в последнюю очередь на его укорененности в национальной почве и потому неизбежно должна была выродиться в пустую поверхностность и суеверие, как только национальные религии также упали в цене с исчезновением всех индивидуальных особенностей. В религиозной сфере также возник, подобно эклектизму в философии, беспринципный синкретизм, мешанина религий, которая принимала все различные формы религиозной деятельности и пыталась объединить самые противоречивые элементы, поскольку не имела реального доверия ни к одной из них. Но пока национальные религии продолжали вести иллюзорную жизнь в пустых формах, среди путаницы и неразберихи всех религиозных состояний прорастала идея общей мировой религии, которой пока не хватало только внутренней синтетической силы, чтобы действительно объединить различия между отдельными религиями.
Что может быть очевиднее, чем абстрагироваться от специфики всех религий и признать их относительную истинность, искать религию за различными религиями и рассматривать различные культы как более или менее безразличные формы, в которых одной и той же божественной силе поклонялись лишь под разными именами? Распад отдельных государств и их поглощение Римской империей способствовали стремлению выйти за пределы многобожия и постичь идею единого божества не меньше, чем соображения философии и реальная потребность в религиозном сознании. Что в безудержной естественности и осязаемой чувственности богов народных верований не было истины, что за фигурами натуралистического пантеона, которые очищенное нравственное сознание уже не могло признать выражением человеческого идеала жизни, За фигурами натуралистического пантеона, которые очищенное нравственное сознание уже не могло признать выражением человеческого идеала жизни, скрывалась только чистая духовность верховного божественного существа, это подозрение все решительнее овладевало всеми истинно религиозными людьми и вело к внутреннему преодолению многобожия, независимо от того, под каким бы старым именем – Зевса, Сераписа, Митры или каким-либо другим с религиозной точки зрения – ни скрывался божественный идеал. Но это сразу же ставило задачу обретения реальных отношений с этим верховным, возможно, единственным реальным и истинным богом, чтобы разделить благословение союза с ним. Здесь, однако, старые формы поклонения были уже недостаточны, поскольку все они были основаны на религиозном натурализме и имели смысл только при условии естественной природы богов.
Единство со сверхъестественным божеством могло быть установлено только сверхъестественным образом, а с духовным существом – только духовным. В этом соображении кроется интеллектуальное объяснение суеверия, которое с упадком народных религий повсюду в античности поднимало голову и низводило религию до уровня бездонной теургии и мантики. Отчаявшись в законности прежних форм поклонения и не имея возможности иначе относиться к сверхъестественному божеству, которое они чувствовали, духи, жаждущие откровения, укрылись в области мутного и неясного мистицизма и пытались удовлетворить свою религиозную тоску с помощью магии и спиритизма. Даже когда народная религия была еще по-настоящему жива, она не смогла полностью удовлетворить глубинных духов и пробудила в них тоску по имманентности божественного, которой богам политеизма слишком не хватало в их объективной естественности и чувственной внешности. В безудержном высвобождении всех душевных и духовных сил, в опьянении мистического экстаза культ фракийского Диониса обещал наслаждение от непосредственного единения с Богом и вызвал огромный энтузиазм. Вслед за этим в очень ранние времена благочестивые люди объединялись в братства для взаимного религиозного стимулирования и укрепления души и культивировали таинственные, темные верования, следы которых тянутся через Фракию в Индию. Одной из таких сект, например, были орфики, которые верили в переселение душ и карму и искали искупления от земных бед через аскетическое благочестие в духе брахманизма и церемониальные очищения. Пифагорейство, чьи начинания в этом направлении были подхвачены и углублены Платоном, также было лишь более одухотворенной формой орфических братств в этическом и религиозном плане. Однако гораздо большее влияние в Греции оказали мистерии, которые в Элевсисе и других местах стремились дополнить официальную государственную религию с мистической стороны. Здесь ежегодный опыт смерти растительности осенью и ее воскрешения весной представлялся посвященным в символических событиях, тем самым вызывая и укрепляя в них убеждение в индивидуальном бессмертии и вечной творческой силе природы. Однако подобные религиозные ассоциации и мистерии существовали и в негреческих странах с древнейших времен, а в некоторых случаях занимали центральное место в официальном культе. В Египте миф об Исиде и Осирисе символизировал смерть и пробуждение природы и был облечен в соответствующие культовые одежды. В сирийском Библосе смерть и воскрешение Адониса отмечались аналогичным образом, с траурными и ликующими праздниками, а во Фригии Аттису, любовнику Кибелы, «великой матери», поклонялись как представителю личного бессмертия.
В результате смешения религий и их распространения по Римской империи повсеместно процветали тайные культы. Именно культивируемые здесь мистические церемонии, острые ощущения религиозного экстаза и требуемый от посвященных мистико-аскетический образ жизни, казалось, гарантировали желанное единение со сверхъестественным духовным божеством. Правда, крещение посвященных, священная трапеза, через которую они пытались вступить во внутреннюю связь с жизнью божества, священные посвящения, омовения и другие культовые мероприятия Мистерий были основаны на натуралистическом мировоззрении. Поэтому они не могли помешать культу Мистерий в принципе не подниматься над культом обычной религии. Самая страстная десенсуализация посредством аскетизма слишком часто превращалась в сексуальные извращения и знойную чувственность; и хотя жрецы старались сделать свой культ все более фантастическим и тем самым более впечатляющим для толпы, религиозный мир воображения и здесь вырождался в дикое суеверие, отбрасывающее людей к состоянию, предшествующему цивилизации и культуре. В конце концов, чем еще были все эти события, как не сакраментальными магическими средствами, с помощью которых натуралистическая концепция религии пыталась получить или подтвердить непосредственную имманентность Божества, символы для идеи непосредственного тождества Бога и человека? Очевидно, что Мистерии лишь стремились практическим путем, через посредничество культа, реализовать то единство духовного и природного, которое философы со времен Платона тщетно пытались понять концептуально. Но то, что они стремились к внутреннему единению с божеством, которое, даже будучи внутренним и духовным, возвышалось над естественностью обычного мира богов, было прогрессом всего этого направления за пределами политеизма народной религии; а таинственный, странный характер их культа, высвобождавшего все силы души, должен был укрепить в последователях Мистерий убеждение, что они находятся на верном пути к божеству, свободному от природы. —
Но не только Мистерии, казалось, предлагали возможность преодолеть политеизм и натурализм народной религии в пользу духовного монотеизма. Он уже существовал в иудейской религии и вел оживленную пропаганду повсюду в прибрежных городах Средиземноморья, где его последователи, будучи купцами, участвовали в торговле с греками. Иудейский национальный бог Яхве отбросил свою партикулярную ограниченность и природную обусловленность и, особенно после возвращения евреев из изгнания, все более возвышался до супраментального существа, отрешенного от всех национальных и политических барьеров. Да и сама национальная исключительность иудейской религии в значительной степени утратила свою строгость, поскольку евреи покинули страну, поселились среди чужих народов и переняли плоды их высочайшей культуры. Под влиянием греческого духа старые жесткие формы еврейского взгляда на мир и жизнь смягчились.
Произошло объединение еврейских и греческих и греческих идей, что привело к полной внутренней реорганизации иудаизма и максимальному приспособлению его к религиозным потребностям нееврейского мира. В ходе этого процесса иудейская религия углубилась, особенно в своей этической стороне, а в своем предположении о едином сверхъестественном и сверхчувственном Боге она обладала концепцией, которую греки, отчаявшись в многобожии, также рассматривали как высший религиозный идеал. Разумеется, мораль, которую она отстаивала, была полностью гетерономной, основанной на требовании слепого подчинения воле Бога, явленной в законе. Но это была еще одна причина, по которой люди того времени симпатизировали иудаизму; ведь поскольку они сами были лишены всякой внутренней поддержки и в своем отчаянии уже не знали, что делать, они были рады отдать свою беспомощность во власть безусловно обязательной воли.
Молодое христианство отличалось от иудейской религии не только трансцендентностью и духовностью своего представления о Боге, но скорее тем, как оно «опосредовало» единство человека и Бога и заменило жесткость иудейского закона верой в «благую весть» пророка из Назарета. Она включила в свой культ самые впечатляющие символы и события мистерий, отказавшись от всех излишеств религиозного аскетизма и экстаза. Но прежде всего она умела завоевать постоянно растущее число приверженцев благодаря пробуждаемой и культивируемой ею надежде на скорую мировую катастрофу и потустороннее блаженство, с которой она обращалась, в частности, к самому низкому, самому угнетенному и самому отчаявшемуся классу людей[3 - Христианство представляет собой своеобразный сплав греко-модифицированного иудаизма с представлением о мистериях. Выросшее на еврейской почве, оно объединяет одухотворенный монотеизм иудаизма и его исторический взгляд на религиозный процесс спасения с учением о спасении мистерий, с его верой в страдающего, умирающего и воскресшего Бога-Спасителя, и переносит эту веру на Иисуса, интерпретируя внутреннее освящение в результате мистического союза с Богом-Искупителем как реальное вечное блаженство после наступления близкой мировой катастрофы.]
Валерий Алексеевич Антонов
Неоплатонизм, возникший в III веке нашей эры, стал одним из ключевых течений философии, углубляясь в изучение природы бытия и человеческого духа. В центре его системы находится идея о Едином – высшей, недоступной разуму реальности, из которой проистекает всё существующее. Неоплатоники, такие как Плотин и Порфирий, подчеркивали важность внутреннего опыта: они утверждали, что истинное познание приходит не через умозрительные конструкции, а через мистическое переживание.
Плотин и неоплатоники
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-8284-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Георг Мелис (1878 – 1942)
Плотин
[Учебник по философии истории]
Предисловие
Философия Плотина стала предметом сравнительно небольшого числа монографий. Если старые историки философии, такие как Брюкер, Теннеманн и Тидеманн, не смогли даже понять дух этого мыслителя, и даже Риттер по существу повторил обвинения в его адрес со стороны рационализма Просвещения, то Гегелю принадлежит заслуга борьбы с рационалистическими предубеждениями против Плотина и первого подчеркивания важности его философии. Однако даже он еще не оценил истинного величия Плотина, а его предпочтение неоплатонику Проклу из-за некоторых формальных сходств между этим мыслителем и его собственной философией отвлекло внимание следующего периода на Прокла и привело к неоправданному отстранению Плотина. Таким образом, только в третьем томе своей «Философии греков» 1852 года Целлер впервые дал действительно полное и всестороннее изложение основных идей Плотина и, с присущей ему объективностью и исторической справедливостью, попытался определить его место в развитии античного мировоззрения. Конечно, он не освободился от старой гуманистической точки зрения, что это развитие достигло своего пика в Платоне и Аристотеле, а все последующее было лишь более или менее глубоким упадком и распадом, и в этом смысле он также осуждал Плотина. Он также недооценил фундаментальный контраст Плотина с послеаристотелевской философией в целом и недостаточно подчеркнул оригинальность достижений этого философа, особенно в сравнении с Платоном. Однако, учитывая зависимость всех последующих историков античной философии от его работ, он своим изложением создал представление обо всем последующем периоде и тем самым восстановил недооценку Плотина по отношению к его предшественникам. И даже интерес к Плотину, возникший в 1850-1860-е годы и породивший ряд выдающихся публикаций по его философии, не смог изменить ситуацию.
Помимо небольших трактатов, особого упоминания в этой связи заслуживает работа Карла Германа Кирхнера «Философия Плотина». Она была опубликована в 1854 году по инициативе конкурса, организованного Берлинской академией в 1847 году, и содержит прекрасное изложение своего предмета, а также остроумные замечания по отдельным специальным вопросам, касающимся плотиновской философии. Несмотря на очевидное стремление к справедливости по отношению к философу, Кирхнер и в этом отношении сильно отстает от истины, и против его взглядов приходится возражать в деталях. Задача, которую поставил перед собой Артур Рихтер в своих «Неоплатонических исследованиях», состояла в том, чтобы устранить эти недостатки своих предшественников и показать Плотина в его истинном величии и в то же время в его актуальном значении для современной спекуляции. Они были опубликованы в пяти отдельных томах в 1864—67 годах, первый из которых посвящен жизни и интеллектуальному развитию Плотина, второй – учению Плотина о бытии и метафизическим основам его философии, третий – теологии и физике, четвертый – психологии и пятый – этике Плотина. Нельзя отказать автору в усердии, тщательности исследований и увлеченности своим предметом. Однако единая картина плотиновской философии с самого начала исключалась из плана его исследований, а пристрастие автора к христианскому догматическому мировоззрению часто мешало ему найти правильную позицию в отношении Плотина. Рихтер раскрыл мотив, который привлек умы к Плотину в вышеупомянутый период и спровоцировал более живое участие в его философии, а именно «основание и развитие идеалистического мировоззрения, которое идет рука об руку с фундаментальными истинами Евангелия», как это в целом желали представители к чему, как правило, стремились представители спекуляции в период расцвета материализма в Германии. То, что эта тенденция, для которой пытались сделать античного мыслителя полезным, не способствовала повышению его авторитета среди непредвзятых умов, пожалуй, не нуждается в дальнейшем обсуждении. Возникновение неокантианства в конце шестидесятых годов, общее презрение, которому подверглись все спекуляции в результате доминирования скептических, агностических и позитивистских тенденций в философии последнего человеческого века, также угасило интерес к Плотину. И поэтому никаких существенных изменений, не говоря уже о прогрессе, в концепции его философии за этот период не произошло. Напротив, метафизически-враждебная, скептическая и агностическая основная черта последнего человеческого века отчасти отбросила оценку Плотина на позиции рационалистического Просвещения до Гегеля, так что изложение его философии, как и неоплатонизма в целом, является одной из самых раздражающих глав в большинстве новейших работ по «истории философии».
Тем временем дух мировоззрения Плотина пережил в философии Хартманна воскрешение, о котором сам автор первоначально не имел ни малейшего представления. Только когда в начале девяностых годов он обратился к более детальному изучению Плотина для «Истории метафизики» и взялся за эссе об «Аксиологии Плотина», Гартман, к собственному изумлению, осознал глубокое внутреннее родство между собой и античным мыслителем, которое распространялось не столько на отдельные конкретные моменты, сколько на некоторые общие черты, сходство характера их философии и положения их взаимного мировоззрения по отношению к предшествующим спекуляциям. Следствием этого стало то, что раздел о Плотине в его «Истории метафизики» стал самым подробным и блестящим и что в нем, впервые в Германии, истинное значение Плотина для умозрения получило соответствующее выражение.
Гартман рассматривал философию Плотина исключительно с точки зрения теории категорий. В настоящей работе предпринята попытка обосновать значение Плотина как в обратном, так и в прямом смысле слова в изложении всего его мировоззрения. Она стремится показать, как в его философии сходятся в единое целое нити предшествующей философской мысли и как истины его предшественников оказываются отмененными как непреходящие. Таким образом, полностью опровергается прежнее мнение о том, что высшая точка античной спекуляции была достигнута Платоном и Аристотелем и что мировоззрение Плотина было лишь философией упадка, и вместо этого ему отводится высшее место во всем развитии античной мысли. Однако в то же время он стремится выявить связи, ведущие от него к философии нового времени и современности, и тем самым открывает новый взгляд на исторический ход философской мысли, который, как кажется, способен развеять ряд прежних предрассудков. Утверждение Рихтера об актуальном значении Плотина для современности подтверждается, но, конечно, не в смысле «возрождения христианского мировоззрения в наш материалистический век», а скорее наоборот, в смысле энергичного движения за его пределы, при котором современный материализм и скептицизм также опускаются до подвешенного состояния. Особый акцент автор делает на доказательстве того, что прежний взгляд на Плотина, согласно которому он представляет себя как основателя философии сознания и тем самым, казалось бы, может служить опорой для теизма, никак не соответствует истинному смыслу и духу его мировоззрения. В то же время, говоря о чередовании двух различных родов, играющем столь важную роль в учении Плотина о принципах, он полагает, что указал на ключ, который отпирает понимание всей философии со времен Платона и на котором в своей глубочайшей сущности основывается не только рационализм, но и современная философия сознания. Если до сих пор все призывы, сколь бы настоятельными они ни были, к пересмотру основной концепции современной мысли оставались неуслышанными, то, возможно, настало время больше не молчать и занять твердую позицию в вопросе о том, может ли сознание действительно быть бытием в смысле независимого, оригинального и существенного существа.[1 - На этот антропопатический характер греческой натурфилософии недавно решительно указал Карл Йоэль в своей прекрасной книге «Der Ursprung der Naturphilosophie aus demGeiste der Mystik» (Eugen Diederichs Verlag, 1906). «Натурфилософы приходят к природе не столько через непосредственное созерцание, сколько через символизм, через визуализацию, пластификацию своего чувства жизни, через поиск контакта, параллели между духовным и физическим». p. 105, ср. особенно 66—116.]
Наконец, несколько слов о существующих переводах Плотина на немецкий язык! Мы располагаем полным переводом «Эннеад» Германа Фридриха Мюллера, которому предшествует перевод биографии Плотина, сделанный Порфирином. Изданный в двух томах в 1878 и 1880 годах, он не столько подчеркивает красоту, сколько максимально точно передает мысли Плотина, и, что бы ни возражали против него в деталях, он незаменим для более детального изучения философа. Отто Кифер недавно опубликовал текст «Эннеад» Плотина, написанный не слишком абстрактно и максимально понятный для широких кругов, с учетом всего, что было опубликовано до сих пор в области передачи Плотина на немецком и французском языках Ойгеном Дидерихсом (1905). Естественно, она рассчитана не столько на строго научного исследователя, способного изучить своего Плотина в оригинале, сколько на большинство образованных людей нашего времени, в которых жива жажда интериоризации и спиритуализации нашей религии. Написанный с большим энтузиазмом и максимально возможным пониманием своего предмета, этот перевод часто читается почти как оригинал. Поэтому автор настоящей работы с благодарностью воспользовался возможностью привести более длинные дословные цитаты из Плотина после текста Кифера.
Карлсруэ, июль 1907 г.
Профессор д-р Артур Дрюс
Введение
Развитие античной философии до Плотина.
История философии есть история борьбы человеческого разума за истинное понятие о духе. В этом великом процессе развития перед греками стояла самая трудная задача. Ведь они были еще в начале процесса, им еще не было ясно, куда направлено развитие, какие задачи должен решить разум, какие средства и способы он должен для этого использовать, они должны были сами с трудом обрести это понимание в ходе развития; и прежде всего вся их собственная природная предрасположенность в принципе не благоприятствовала достижению этой бессознательной цели. Ведь сами греки всем своим мышлением были укоренены в природе. Они жили и дышали непосредственно осязаемой реальностью вещей. Их ясный, устремленный вдаль взор был полностью очарован внешними проявлениями чувств. Их разум чувствовал удовлетворение в объективном. Пластическое чувство и художественное восприятие указывали им на существование мира материальных внешних объектов. Они также знали душу и дух только как объективные природные реальности и еще ничего не знали о различии между идеальным и реальным бытием, о контрасте между сознанием и существованием.
Греческая философия наполнена стремлением постичь реальное или сущностное основание вещей непосредственно с точки зрения чувственного наблюдения и восприятия. Этот эпистемологический наивный реализм и метафизический индифферентный монизм составляет основную предпосылку всей натурфилософии от Фалеса до Анаксагора, а именно: мысль и бытие, взятые в смысле природной, чувственно-материальной реальности, непосредственно тождественны. Различные взгляды мыслителей, относящиеся сюда, представляют собой лишь столько же различных попыток понять ощутимое и объективное как истинно реальное, как основание и сущность всех вещей, будь то у Фалеса в форме воды, у Анаксимандра в бесконечно протяженной субстанции мира, у Анаксимена в воздухе, у Гераклита в огне, у Эмпедокла в четырех стихиях или у атомистов в мельчайших материальных составных частях действительности. Только Пифагор и элеаты, кажется, приближаются в своем мышлении к понятию чистого духа, свободного от всякой естественности. Но если последний объявляет число основой вещей, божественной силой, управляющей миром, то и здесь перекос в общегреческом образе мышления проявляется в том, что число невольно вырастает до материального существа, основания в субстанциальном смысле, «вещества» самих предметов; И даже Парменид не идет дальше приравнивания своего неопределенного Единого, которое он противопоставляет множественности и детерминированности эмпирического бытия как единственного истинно существующего, к физической реальности вещей, к материальности как таковой. Анаксагор впервые объясняет дух в смысле нуса или разума как принципа, упорядочивающего и определяющего мир, но, со своей стороны, все еще представляет нус совершенно натуралистически, как материальное, воздухоподобное существо, и, таким образом, еще не преодолевает почву прежней натурфилософии.
Фундаментальное противоречие всей этой школы состояло в том, что, будучи философией, она была вынуждена определять бытие через мышление, через понятийную обработку данного материала, и в то же время предрасположенность греческого народа не позволяла ей приписывать бытию что-либо иное, кроме чувственного определения. Эта философия исходила из того, что сущность вещей должна быть обнаружена где-то во внешнем мире, в сфере чувственно воспринимаемого. Поэтому она искала основание вещей в природе и считала природную субстанцию сущностью; в этом заключался ее натурализм. Теперь все возможности решения мировой проблемы из этой предпосылки были испробованы, но прежняя натурфилософия так и не пришла к согласию относительно истинного бытия. Наивное предположение, что органы чувств способны открыть нам сущность вещей, должно было уступить место осознанию элеатами и Гераклитом того, что непосредственное чувственное восприятие не может дать нам сущностного знания. Однако утверждение разума как истинного принципа познания противоречило само себе до тех пор, пока сохранялось тождество бытия и мышления, а бытие определялось как чувственная реальность. Ведь тогда либо эта реальность должна была смириться с тем, что разум осуждает ее за противоречивость и сводит к простой видимости, либо разум должен был признать свою неспособность познать противоречивую неразумную реальность собственными средствами. Если физическое бытие и мышление – одно и то же, то в конечном счете дело вкуса, личного произвола или склонности характера – сделать ли из всех возникающих несоответствий вывод о нереальности бытия или о неспособности мышления отдать должное бытию. Первое было сделано элеатами и нашло свое наиболее резкое выражение в диалектике Зенона. Вторым занимались софисты. В обоих случаях, однако, скептицизм был неизбежным следствием выбранной отправной точки.
Из противоречия между чувственным восприятием и разумом победителем вышел последний, но не объективный разум, как Нус Анаксагора, а субъективный разум философа, который сам вначале совершил это противоречие. Анаксагор объявил Нус определяющим принципом реальности и рассматривал миросозидающую силу как выражение его сущности. Софисты согласились с ним в том, что реальность – дело рук мыслящего существа; но поскольку они утверждали, что ничего не знают об объективной реальности, Нус совпадал с конечным разумом, эго, как носителем и творцом мира. Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир по-настоящему.
Софисты поняли, что прежняя натурфилософия не объясняет мир из природы, а молчаливо основывает свою концепцию природных принципов на опыте внутренней жизни души, что предполагаемое тождество бытия и мышления в истине уже означает преобладание мышления над природным бытием. Реализации бытия как такового не существует, есть только такая реализация из субъективной природы мышления. Человек, – учит Протагор, – есть мера всех вещей». 1) Отчаявшись в возможности прийти к чисто объективному знанию о мире, софисты отвергли всякое умозрение и противопоставили мир самому себе, теоретическое постижение внешней реальности – практическому утверждению собственного непосредственного «я». Тем самым они порывали со всей натурфилософией, открывая субъективный дух в его отличии от природы и превосходстве над объектами внешнего бытия. То, что из обилия природных явлений софисты извлекли и объявили суверенным только субъективный разум, что основанная ими «свобода разума» была, таким образом, лишь чисто формальной, связанной с субъективным произволом и прихотью, и что провозглашенная ими автономия влекла за собой отказ от всякой морали, было недостатком и сомнительной стороной всего этого направления. Но как могли софисты найти самость в чем-то более глубоком и фундаментальном, чем их собственное эго, ведь натурализм, на преодоление которого было направлено все их мышление, все еще был слишком глубоко в их крови, чтобы они могли найти основание бытия где-то еще, кроме непосредственной эмпирической реальности? Софисты разрушили и подорвали объективный натурализм внешней природы, чтобы заменить его субъективным натурализмом собственного «я».
Это была лишь противоположная односторонность, но она была необходима для того, чтобы выйти за пределы природы вообще, как внешней, так и внутренней, и в то же время это был шаг неизмеримого значения, поскольку эго софистов было на самом деле ближе к истинному принципу духа, чем чувственная материальность и внешняя объективность натурфилософов. – Великий поступок Сократа заключался в том, что, чтобы нейтрализовать пагубные последствия нового открытия, он обратился к изучению самой человеческой мысли. В этом Сократ походил на софистов, поскольку в явном противостоянии чувственного восприятия и мышления принимал сторону мысли и понимал субъективность, которой определяется объективный мир, как превосходящую объективную природу. Но он не представлял себе субъективность, как они, как суверенное «я» и носителя мысли; поэтому он также не приписывал ей право и способность обращаться с мыслями по произвольной прихоти и желанию, а определял саму мысль как содержание субъективности, а понятие – как руководящий принцип мыслительной деятельности. Софисты понимали «познание себя» в смысле genitivus subjectivus, то есть они уступали эго суверенитет его способа выражения также и в отношении познания и делали акцент на понятии «я» или «эго». Сократ, напротив, делал акцент на понятии знания и понимал genitivus «самости» как genitivus objectivus в том смысле, что самость образует реальный объект человеческого знания. Тем самым он избавил почву от пагубного субъективизма и эгоизма софистов. Ведь, согласно ему, уже не Я определяет, что истинно, а что ложно, а только правильное понятие вещи решает, истинно ли относящееся к ней знание. Только знание понятия является истинным знанием, только знание, сформированное на основе правильных понятий, может по праву называться знанием. Первым это сказал Сократ: К знанию и истине ведет не внешняя чувственно обусловленная объективность природы, а лишь внутренняя необходимость мышления. Софисты правы, когда говорят, что окончательное решение о природе бытия принадлежит «я», как носителю и субъекту мысли; только тогда это «я» передает истинное знание, если оно самоотверженно подчиняет себя природе понятия.
Субъективность, к которой софисты отступили по отношению к внешней природе, углубляется у Сократа настолько, что сама вновь предстает как объективность, но теперь уже не как внешняя, чувственная, природная объективность, а как нечувственная, внутренняя объективность духа. Если софисты учили, что человек есть мера всех вещей, то Сократ согласен с ними в этом, но с тем дополнением, что речь идет не о том или ином человеке в его случайной частности, а о человеке мыслящем, о человеке в той мере, в какой он, как мыслящий субъект, действует на себя как нечто объективное и общее. Если софисты растворяли всю объективную истину в простой игре субъективных идей, то Сократ совершает прорыв к надиндивидуальной объективности понятия. Таким образом, Сократ открывает для мышления сферу, которая столь же объективна, как природа, столь же духовна, как эго, одним словом: царство объективного духа. Таким образом, он действительно является, как назвал его Ницше, хотя и по-другому, «вихрем и поворотным пунктом мировой истории». Ведь факт существования царства объективного духа – это величайшее открытие, которое когда-либо делал мыслящий человек в своем исследовании бытия, величайшее, по крайней мере, открытие, благодаря которому греческий дух, в своем наивном погружении в природу, смог получить приз нетленной славы.
С осознанием понятия как чего-то объективного и всеобщего, нормам которого должен был подчиниться даже самый крайний субъективист, софистика была преодолена. Тем самым была пройдена та мертвая точка, до которой софисты дошли в своем последовательном стремлении к предпосылкам греческой мысли. Платон создал прочный фундамент для открытого Сократом царства объективного духа, противопоставив субъективной воле человека и нелогичной реальности природы мир вечных идей, то есть независимых и метафизически абсолютизированных понятий Сократа, как нечто абсолютно логичное и нормативное. Таким образом, впервые в западной мысли духовное как особый вид бытия было принципиально отграничено от бытия природных объектов и вышло за их пределы как высшее. То, что мышление и бытие тождественны, – эта основная предпосылка всей предшествующей философии – была признана еще Платоном. Но если раньше она понималась только в натуралистическом смысле, как если бы мы имели перед собой реальность par excellence в чувственно воспринимаемом мире и постигали ее непосредственно в мышлении, то у Платона она приобрела значение, что мы обладаем истинной реальностью только в самой мысли.
Понятие не является, как утверждал Сократ, простым субъективным средством познания бытия, но оно есть само бытие, оно есть в то же время внутренне существующий объект познания. Сократ довольствовался тем, что вернул мышлению, выродившемуся в произвол и игривость софистики, его сущность, вернул ему утраченную объективность, освободил его от чувственных примесей, вызвавших это вырождение, с помощью искусства концептуализации и тем самым заново поддержал колеблющуюся нравственность своего народа. Для Платона моральное разложение уже казалось столь значительным, что ему было недостаточно просто восстановить эпистемологическое преимущество мысли над чувственным восприятием, которое уже признали натурфилософы: он прибег к насильственному средству – отрицанию объекта восприятия, чувственно-природного бытия, вообще. Естественная реальность, утверждал он вместе с элеатами, – это не просто неполноценная реальность, это вообще не истинная реальность; единственная истинная реальность – это реальность понятия. Это был полный разрыв с сущностью эллинского разума, полный переворот всех обычных представлений о вещах, оставивший позади даже акосмис- тическую концепцию мира Парменида, поскольку последний, как я уже говорил, не сомневался в реальности физического как такового. То, что впервые начал Сократ, еще не осознавая его последствий, Платон завершил: он освободил разум в его чистоте, он вырвал прежнюю почву из-под ног мышления своего народа, он открыл тем самым совершенно новую страницу в истории греческого и западного интеллектуального развития.
Исходя из мысли, что истинное понятие одновременно является истинным бытием и определяет эмпирическую реальность, перед Платоном встала задача доказать его как объективный prius и доэмпирическую детерминанту опыта. Из того, что понятие есть одновременно субъективное средство познания истинного бытия, вытекала и другая задача – дать доказательство абсолютной истинности понятия. Та задача была метафизической, эта – эпистемологической или методологической. Там речь шла о том, чтобы продемонстрировать метафизическое опосредование понятия и мира видимостей или, скорее, определяемого им иллюзорного мира, показать, как объективное понятие, «идея», и опыт, такой как дух и природа, могут быть взаимосвязаны и образовывать единую реальность, несмотря на их контрастную природу. Здесь, с другой стороны, речь шла о том, чтобы показать путь от опыта к понятию, сделать понятным, как субъективное понятие может быть одновременно объективным или как понятие, которое мы имеем об истинном, само может быть абсолютной истиной. У Платона эти две совершенно разные задачи все же проходят отдельно друг через друга; и это отсутствие разделения определяет характер его философии. В центре ее – «понятие бытия». Но этот генитив можно понимать и как genitivus subjectivus, и как genitivus objectivus, имея в виду и объективную понятийную природу бытия, и субъективное его познание. Платон, однако, не учитывает этого различия. Он постоянно путает метафизический смысл понятия с его эпистемологическим смыслом, субъективное мышление философа об объективных мыслях с самими этими мыслями; из-за этого вся его философия выглядит как сизифов труд.
Согласно Платону, понятие, которое философ имеет о бытии, есть в то же время понятие, которое имеет или, скорее, есть само бытие, бытие как понятие, тождество бытия и понятия: понятие бытия есть бытие понятия. Эрос», энтузиазм философского знания, который переносит человека над миром чувств в сферу мира идей, который дает ему непосредственное видение его содержания, «интеллектуальное видение» идеи, есть не что иное, как этот генитив в его одновременно объективном и субъективном значении; Это лишь символическое выражение того факта, что вся предполагаемая непосредственность познания истинно существующего и основанная на ней аподиктическая уверенность базируется на созвучии и двойном смысле одного и того же генитива. Представление и объект, познание и бытие подходят друг к другу как бы с двух разных сторон и сливаются в одном понятии. Платон, однако, не в состоянии прояснить, как метафизическое понятие или идея, будучи доэмпирической детерминантой природного бытия, может соотноситься с ним, формировать его и сливаться с ним в единство, и ему не удается доказать, что эпистемологическое понятие, которое как таковое выводится из опыта и потому является более поздним, чем он, тождественно с метафизическим понятием. Но от этого тождества зависит судьба всей платоновской философии, поскольку понятие может претендовать на абсолютную истину только в том случае, если оно, будучи субъективным, одновременно является объективным, или если мышление и бытие непосредственно совпадают в человеческом познании.[2 - Ср. глубокую и формально превосходную работу Леопольда Циглера: «Рационализм и эрос» (Eugen Diederichs, 1905): «Der Rationalismus der Antike und sein Erkenntnisproblem».]
Идеализм состоит в утверждении, что понятие есть истинная сущность и в то же время истинная реальность; рационализм Платона состоит в утверждении, что субъективное понятие в то же время объективно в своей истинности. Оба утверждения, однако, являются лишь различными отражениями его предположения о непосредственном тождестве бытия и мышления и выражают две задачи, которые человеческий разум видел перед собой в приобретении понятия духа как отличного от природы.
Аристотель стремится решить описанную выше метафизическую задачу и преодолеть установленное Платоном противопоставление духа и природы, вновь объявив их тождественными. Он отличает их друг от друга только как форму и субстанцию и представляет субстанцию как изначально бесформенный и неопределенный субстрат или основу вещей, которая определяется изнутри мыслью и формируется в различные качества. Мышление объектов со стороны философа является для него мышлением объектов в смысле genitivus subjectivus. Для него сущность объектов заключается в мышлении, причем таким образом, что неопределенная субстанция побуждает имманентное ей объективное мышление развернуть свои детерминации и тем самым придать ей определенную форму, подобно тому как наше субъективное мышление побуждается к активности «изумлением» перед противоречиями или немыслимым, то есть материальным, характером реальности. Однако вместо того, чтобы предложить реальное решение проблемы, он лишь возвращается к позиции первоначального натурализма до Платона. Ведь утверждаемое таким образом тождество разума и природы было именно догматической предпосылкой прежней философии, за исключением того, что то, что до сих пор считалось наивной самоочевидностью, было сознательно объявлено Аристотелем сущностью самой материи.
Таким образом, Аристотель также не оказал существенного содействия в понимании природы разума; более того, авторитет этого философа оказался камнем преткновения в последующие времена и в конечном итоге виноват в том, что и сегодня нет полного единства в отношении концепции разума, а натуралистическое объединение природы и разума по-прежнему вновь и вновь присваивает себе философское значение. Ведь вопрос заключается именно в том, как мысль и субстанция могут образовывать непосредственное единство. Аристотель ничего не вносит в решение этого вопроса, когда наряду с объективным мышлением предметов, мышлением, замутненным материей, он предполагает так называемое чистое мышление, мышление мышления как первоисточник и цель всего процесса мышления-мира. Но и другая, эпистемологическая задача не была решена самыми напряженными усилиями Аристотеля. Ибо хотя этот философ совершенно справедливо признавал, что абсолютная истина может быть получена только дедуктивным путем, исходя из высшего понятия бытия, он не смог показать, как можно прийти к этой высшей предпосылке дедукции иначе, как индуктивным путем, восходя от опыта, и как можно таким путем установить абсолютную истинность этой предпосылки, без которой даже то, что из нее выводится, не имеет безусловной достоверности. Мышление о предметах со стороны философа и предметы мышления или метафизические реальности остаются двумя разными вещами. Поэтому, однако, достижение абсолютной истины для философского знания представляется безнадежным. —
В этих условиях от философии после Аристотеля, остающейся во всем зависимой от него и Платона, конечно же, нельзя ожидать существенного прогресса в решении фундаментальной философской проблемы. Эта философия либо скатывается еще дальше, чем Аристотель, с высоты достигнутой им точки зрения и приближается к первоначальному натурализму еще ближе, чем тот, либо вообще отказывается от возможности решения поставленных задач и отворачивается от умозрения. Таким образом, это отчасти метафизический догматизм, т. е. Он придерживается, не исследуя самой этой предпосылки, предположения о непосредственном тождестве духовной и материальной или телесной реальности, за исключением того, что не рассматривает, подобно Аристотелю, природу как по существу духовное существо, а, наоборот, дух, как натурфилософия до Сократа, как природное существо; отчасти он отрицает, что вообще возможно определить природу реальности без противоречия, и тем самым снова подходит к позиции софистики. Первую точку зрения разделяют стоицизм и эпикурейство, вторая – мнение скептицизма. Однако все трое сходятся в том, что теоретическое знание интересует их лишь постольку, поскольку оно может служить основой для практического или морального поведения и способствовать человеческому счастью. Вопрос, который уже лег в основу платоновской спекуляции в качестве невысказанной предпосылки, а именно: как должно быть понято реальное, чтобы быть непоколебимой детерминантой морального, – прямо ставится ими во главу своих исследований и придает всей их философии сугубо практический характер.
Стоики, вслед за Гераклитом, полностью трансформируют аристотелевское учение о принципах с его противопоставлением формы и вещества в натуралистическом смысле: они отрицают нематериальность и духовность принципа формы, а значит, и существование чистой мысли вне вещества, как утверждал Аристотель, и таким образом приходят к решительному монизму, который является столь же решительным материализмом. Их эпистемологическая позиция – наивный сенсуализм, выводящий мысль из восприятия, но они не могут отрицать, что восприятие получает свою достоверность только через мысль, и не знают, как выкрутиться из круга с этой уступкой рационализму. Эпикурейцы просто возобновляют атомизм Лейциппа и Демокрита, а также застревают в чистом сенсуализме в плане эпистемологии. Опору морали и счастья они находят в вере в провидение и целенаправленную организацию мирового устройства, за которую они наивно цепляются вопреки своему натуралистическому монизму. Они находят ее в отрицании всякой сверхъестественной реальности и объективной цели, в исключительном признании законности и идее подчинения естественному ходу вещей.
Но как? Если блаженство, как полагают и стоицизм, и эпикурейство, состоит в свободе субъекта, в независимости личности от всего, что не есть она сама, в ее неограниченной самостоятельности, то нужно ли здесь мировоззрение, теоретическое проникновение во внутреннюю связь вещей? Можно подумать, что высшая независимость человека гарантирована только тогда, когда он свободен и от всякого мировоззрения, когда вообще не существует объективных норм, через которые можно было бы определить прозрение человека в их природу, которые он мог бы принять за руководство для своего практического поведения. Такова точка зрения скептицизма.
В различных своих формах скептицизм утверждает относительность всех наших знаний и невозможность на их основе постичь природу реальности. Старший скептицизм Пирра, по-видимому, не выходил за рамки некоторых общих утверждений о невозможности познания и не углублял существенно соответствующие взгляды софистов. Средний скептицизм Платоновской академии был направлен главным образом против стоиков и стремился вырвать у них предполагаемое решение платоновской проблемы, оспаривая их эпистемологические принципы и метафизические концепции. Аркесилай и Карнеад отвергали стоический сенсуализм с его наивной реалистической верой в истинность чувственного восприятия. Карнеад показал несостоятельность стоической веры в провидение, вскрыл противоречия в концепции Бога стоиков и даже подверг критике их этику, тем самым разрушив основные столпы стоического мировоззрения. То, что средний скептицизм оставил от позитивных взглядов, младший скептицизм прояснил. Вся философия после Аристотеля придерживалась предпосылки, что реальное – это материальное или телесное; только с этой точки зрения скептики направили свою атаку против познания истинного бытия. Секст, прозванный Эмпириком, показал несостоятельность и этой предпосылки, доказал немыслимость причинно-следственной связи между телами и своей критикой разрушил само понятие тела, продемонстрировав, что тело нельзя ни воспринимать, ни даже мыслить. Таким образом, скептицизм не только разрушил позиции постклассической философии, но и сам фундамент, на котором древние изначально строили свою философию, был подорван скептиками, и вся гордая постройка античного мировоззрения была разрушена во всех своих частях. Невозможно постичь реальность с точки зрения чувственного восприятия. То, что воспринимается органами чувств, материально или телесно; но понятие о нем непостижимо, как непостижимо и всякое воззрение, которое так или иначе подразумевает существование материального существа и приписывает телу подлинную реальность. Чувственное, телесное существование не является чем-то существенным и реальным, потому что его понятие чревато противоречием. Но поскольку чувственное существование – это единственное существование, которое существует, если восприятие объявляется источником знания, мы не можем распознать реальное и существенное.
Раскол, вошедший в мир через Платона, действительно оказался неизлечимым. Не имея возможности преодолеть противопоставление духа и природы иначе, чем путем утверждения их непосредственного тождества, понятие духа было уничтожено вместе с понятием природы, и мысль, таким образом, была обречена на полный нигилизм. Понятие «бытие», которое у Платона имело одновременно субъективный (эпистемологический) и объективный (метафизический) смысл, было возвращено к своему чисто субъективному смыслу после того, как стало ясно, что наглядное физическое бытие не может быть постигнуто. Философия, по сути, вернулась к позиции софистов. Этот результат, однако, был тем более губителен для античного разума, что его объективное мышление принципиально не могло быть полностью оторвано от зрения. Даже Платон смог прийти к своей концепции мира идей, отличного от природной реальности, лишь представив сверхчувственные идеи как объективные фигуры или формы, существующие сами по себе, которые, если не чувственно, то, во всяком случае, интеллектуально могут быть созерцаемы нами в предродовой жизни; таким образом, он снова приписал духовной сущности некую естественность. Однако Аристотель, а тем более его преемники, полностью вернулись к первоначальному греческому взгляду, рассматривая дух как естественное, чувственное, физическое существо. Поэтому это было не что иное, как не что иное, как гибель самого античного духа была предрешена, если теперь выяснилось, что объективное мышление вовсе не способно не способно проникнуть в истинную реальность. Существовала ли вообще истинная реальность и была ли она познаваема познаваема любым разумом?
Скептицизм отрицал это, утверждая, что всякое знание относительно, а относительное, следовательно, не есть нечто внутренне существующее и существенное, а значит, не истинная реальность, а всего лишь мысль. Вся его полемика против понятий причинности и телесности также была лишь частным случаем его основного утверждения, что отношение как внутренне существующая вещь непостижимо. Ведь отношение как таковое не находится ни в одной, ни в другой из двух связанных друг с другом вещей, ни в обеих вместе, ни существует как нечто самостоятельное без связанных вещей. Отношение приложимо только к разуму, только мышление соотносит предметы друг с другом; и только это и есть так называемое знание предметов. Однако наше предполагаемое знание материальной реальности, как хвасталась постклассическая философия, не есть знание вообще, не есть реализация того, что существует само по себе, потому что тела, с их относительной природой, не могут быть чем-то существенным и реальным. – Так неужели нельзя было выйти за пределы скептицизма, который это запечатывало? Всякое мышление движется в отношениях, но всякое отношение держится только на духе. То, что оно держится только на субъективном разуме познающего человека, было молчаливой предпосылкой скептицизма. Но что, если он придерживается вовсе не субъективного, а отличного от него объективного разума, если субъективный разум человека изначально не порождает отношения, а лишь считывает из них архетипические отношения реальности и образно воссоздает их? Тогда существует и подлинная реальность, и познание этой реальности, знание о существующем, пусть даже изначально это не наше знание, а знание объективного духа, который мы должны принять за носителя и субъекта познания реальности. Понятие или «знание о бытии» здесь, как и у Платона, вновь приобретает тот метафизический смысл в смысле genitive subjectivus, который оно все более утрачивало в постклассической философии, с той лишь разницей, что бытие в genitive «о бытии» теперь уже не отождествляется, как у Платона, непосредственно с самим знанием, но отличается от него в смысле действительного субъекта, как носителя знания. Платон тоже определял самосуществующую, сущностную реальность вещей как мысль; но он рассматривал самосуществующие мысли, идеи, как самостоятельные сущности, не зависящие ни от чего другого, существующие сами по себе, которые лишь архетипически представляют физический мир в высшей сфере идеального. Теперь возникает мысль, что архетипические идеи вовсе не являются конечными и изначальными, но что они лишь образуют сверхчувственное основание чувственного существования как детерминации высшего существа, отличного от них самих.
Для Платона объективный дух совпадал с совокупностью Идей, а они сами уже были для него абсолютным бытием. Теперь объективный дух выходит за пределы мира идей как своего основания и носителя, и поскольку он только в этом качестве совпадает с абсолютным бытием, понятие объективного духа расширяется до понятия абсолютного духа. По сути, сущностный смысл античной философии впоследствии раскрывается перед нами как борьба за понятие абсолютного духа. В то же время постановка двух основных проблем, которую мы находим у Платона, приобретает новый вид. Попытки найти путь от объективного, сверхчувственного мира идей к миру опыта, преодолеть пропасть, открытую Платоном между этими двумя мирами, и преодолеть дуализм платоновского мировоззрения, оказались безуспешными. Теперь эта метафизическая проблема приобретает форму вопроса о том, как абсолютный дух привел чувственный мир в бытие посредством мира идей, своей вечной причины, какие еще «посредники» он использовал для этого и каково соотношение между абсолютным и конечным бытием. Но в то же время другая эпистемологическая задача уточняет, с чего должен начать человек, чтобы достичь единства с Абсолютом. Здесь проблема античной философии совпадает с проблемой религии, ибо вопрос об отношении Бога к миру, о единстве человека и Бога составляет также фундаментальный вопрос всей религиозной жизни. Ставя этот вопрос в центр своих дискуссий, философия становится философией религии. -В античности философия не всегда была в дружеских отношениях с религией. С тех пор как элеатский Ксенофан впервые решительно выступил против господствующих в народе верований и сделал мишенью своей критики антропоморфизм и антропопатизм греческой концепции Бога, отношения между философией и народной религией были в основном негативными. Прежде всего, софисты с их едкой диалектикой не щадили мифологическую концепцию политеизма и вместе с Анаксагором пытались истолковать мифы в чисто физических терминах, или, как Продик, в воображаемых одеждах полезных природных объектов, или, как Эвемер, исторически с апофеозом великих людей, а вместе с Протагором отрицали способность смертных говорить что-либо положительное о божественных вещах. Сократ, безусловно, стремился утвердить более чистое представление о Боге и доказать его в жизни своим нравственным поведением; а Платон углубил обычный религиозный мир идей, отождествив божество с идеей блага, философски обосновав личное бессмертие, доктрину очищения души и трансцендентный, сверхчувственный характер своего мировоззрения. Вера стоиков в провидение, их предположение об объективной связи целей и имманентной справедливости мировых событий также носила явно религиозный характер, и они также стремились установить более дружественные отношения с народной религией.
Но их переосмысление мифов в философском смысле и превращение богов в чисто понятийные сущности скорее способствовало равнодушию к традиционным религиозным формам и ускорению процесса разложения народной религии, чем принесло ей какую-либо положительную пользу. Эпикурейцы, несмотря на безразличное отношение своего учителя к религии, не могли, согласно своим принципам, испытывать к богам ничего, кроме открытой насмешки и презрения; и, наконец, скептический отказ от всякого знания и чисто внешнее соблюдение обычных религиозных правил и обычаев, отстаиваемых скептиками, должны были привести к упадку античной религии. Эклектизм, возникший, в частности, с приходом философии в римскую интеллектуальную жизнь и приведший к распаду философии на множество школ и сект, стремился связать взгляды различных школ друг с другом без нового синтетического принципа. При этом он не то чтобы боролся с религией, но и не давал реального удовлетворения религиозному сознанию и, более того, оставался слишком ограниченным кругом образованных людей, чтобы оказывать сколько-нибудь заметное влияние на ход событий, даже там, где он стремился поддержать религию философскими соображениями, как в случае с Цицероном.
В принципе, даже самая серьезная воля и самая мощная интеллектуальная сила не смогли бы остановить упадок античной религии. Ведь она была обречена с того самого момента, когда натурализм с его объединением природы и духа был признан нежизнеспособным, а первоначальная почва религии, как и философии, была отторгнута. Политеистическая народная религия жила и дышала верой в природную сущность и действенность богов. Она просто не могла больше существовать, когда эта вера была поколеблена рефлексией и дух как особое существо поднялся над естественностью. Ибо либо дух, как субъективный дух, должен был возвыситься над миром богов и свести его к продукту своего воображения, либо боги народной религии должны были превратиться в несовершенные символы сверхчувственной духовной сферы и тем самым утратить свою религиозную значимость. Переворот политических условий на Востоке, произведенный Александром Македонским, а затем в районе всего Средиземноморья римлянами, лишь ускорил этот упадок, но не вызвал его изначально. Уничтожив реальную государственную основу древней религии, упразднив национальность народов и уничтожив их независимость и свободу, он закрыл источники своеобразной духовной деятельности и национального выражения жизни и вместе с тем подавил силу религиозной жизни. В духовном плане империя Александра, безусловно, была огромным шагом вперед, поскольку нивелировала различия между народами. Распространение греческого языка создало общую почву для взаимопонимания между ними и внутренне сблизило их.
Римляне также разрушили последние барьеры и перегородки между народами и направили расходящиеся потоки развития в один большой бассейн. Это открыло путь к неведомой доселе древним идее человечества как всеобъемлющего целого, к идее родства и общности интересов всех людей, к которой партикулярное сознание древних общин никогда бы не скатилось само собой. А между тем сама сила и глубина древнего выражения жизни основывалась не в последнюю очередь на его укорененности в национальной почве и потому неизбежно должна была выродиться в пустую поверхностность и суеверие, как только национальные религии также упали в цене с исчезновением всех индивидуальных особенностей. В религиозной сфере также возник, подобно эклектизму в философии, беспринципный синкретизм, мешанина религий, которая принимала все различные формы религиозной деятельности и пыталась объединить самые противоречивые элементы, поскольку не имела реального доверия ни к одной из них. Но пока национальные религии продолжали вести иллюзорную жизнь в пустых формах, среди путаницы и неразберихи всех религиозных состояний прорастала идея общей мировой религии, которой пока не хватало только внутренней синтетической силы, чтобы действительно объединить различия между отдельными религиями.
Что может быть очевиднее, чем абстрагироваться от специфики всех религий и признать их относительную истинность, искать религию за различными религиями и рассматривать различные культы как более или менее безразличные формы, в которых одной и той же божественной силе поклонялись лишь под разными именами? Распад отдельных государств и их поглощение Римской империей способствовали стремлению выйти за пределы многобожия и постичь идею единого божества не меньше, чем соображения философии и реальная потребность в религиозном сознании. Что в безудержной естественности и осязаемой чувственности богов народных верований не было истины, что за фигурами натуралистического пантеона, которые очищенное нравственное сознание уже не могло признать выражением человеческого идеала жизни, За фигурами натуралистического пантеона, которые очищенное нравственное сознание уже не могло признать выражением человеческого идеала жизни, скрывалась только чистая духовность верховного божественного существа, это подозрение все решительнее овладевало всеми истинно религиозными людьми и вело к внутреннему преодолению многобожия, независимо от того, под каким бы старым именем – Зевса, Сераписа, Митры или каким-либо другим с религиозной точки зрения – ни скрывался божественный идеал. Но это сразу же ставило задачу обретения реальных отношений с этим верховным, возможно, единственным реальным и истинным богом, чтобы разделить благословение союза с ним. Здесь, однако, старые формы поклонения были уже недостаточны, поскольку все они были основаны на религиозном натурализме и имели смысл только при условии естественной природы богов.
Единство со сверхъестественным божеством могло быть установлено только сверхъестественным образом, а с духовным существом – только духовным. В этом соображении кроется интеллектуальное объяснение суеверия, которое с упадком народных религий повсюду в античности поднимало голову и низводило религию до уровня бездонной теургии и мантики. Отчаявшись в законности прежних форм поклонения и не имея возможности иначе относиться к сверхъестественному божеству, которое они чувствовали, духи, жаждущие откровения, укрылись в области мутного и неясного мистицизма и пытались удовлетворить свою религиозную тоску с помощью магии и спиритизма. Даже когда народная религия была еще по-настоящему жива, она не смогла полностью удовлетворить глубинных духов и пробудила в них тоску по имманентности божественного, которой богам политеизма слишком не хватало в их объективной естественности и чувственной внешности. В безудержном высвобождении всех душевных и духовных сил, в опьянении мистического экстаза культ фракийского Диониса обещал наслаждение от непосредственного единения с Богом и вызвал огромный энтузиазм. Вслед за этим в очень ранние времена благочестивые люди объединялись в братства для взаимного религиозного стимулирования и укрепления души и культивировали таинственные, темные верования, следы которых тянутся через Фракию в Индию. Одной из таких сект, например, были орфики, которые верили в переселение душ и карму и искали искупления от земных бед через аскетическое благочестие в духе брахманизма и церемониальные очищения. Пифагорейство, чьи начинания в этом направлении были подхвачены и углублены Платоном, также было лишь более одухотворенной формой орфических братств в этическом и религиозном плане. Однако гораздо большее влияние в Греции оказали мистерии, которые в Элевсисе и других местах стремились дополнить официальную государственную религию с мистической стороны. Здесь ежегодный опыт смерти растительности осенью и ее воскрешения весной представлялся посвященным в символических событиях, тем самым вызывая и укрепляя в них убеждение в индивидуальном бессмертии и вечной творческой силе природы. Однако подобные религиозные ассоциации и мистерии существовали и в негреческих странах с древнейших времен, а в некоторых случаях занимали центральное место в официальном культе. В Египте миф об Исиде и Осирисе символизировал смерть и пробуждение природы и был облечен в соответствующие культовые одежды. В сирийском Библосе смерть и воскрешение Адониса отмечались аналогичным образом, с траурными и ликующими праздниками, а во Фригии Аттису, любовнику Кибелы, «великой матери», поклонялись как представителю личного бессмертия.
В результате смешения религий и их распространения по Римской империи повсеместно процветали тайные культы. Именно культивируемые здесь мистические церемонии, острые ощущения религиозного экстаза и требуемый от посвященных мистико-аскетический образ жизни, казалось, гарантировали желанное единение со сверхъестественным духовным божеством. Правда, крещение посвященных, священная трапеза, через которую они пытались вступить во внутреннюю связь с жизнью божества, священные посвящения, омовения и другие культовые мероприятия Мистерий были основаны на натуралистическом мировоззрении. Поэтому они не могли помешать культу Мистерий в принципе не подниматься над культом обычной религии. Самая страстная десенсуализация посредством аскетизма слишком часто превращалась в сексуальные извращения и знойную чувственность; и хотя жрецы старались сделать свой культ все более фантастическим и тем самым более впечатляющим для толпы, религиозный мир воображения и здесь вырождался в дикое суеверие, отбрасывающее людей к состоянию, предшествующему цивилизации и культуре. В конце концов, чем еще были все эти события, как не сакраментальными магическими средствами, с помощью которых натуралистическая концепция религии пыталась получить или подтвердить непосредственную имманентность Божества, символы для идеи непосредственного тождества Бога и человека? Очевидно, что Мистерии лишь стремились практическим путем, через посредничество культа, реализовать то единство духовного и природного, которое философы со времен Платона тщетно пытались понять концептуально. Но то, что они стремились к внутреннему единению с божеством, которое, даже будучи внутренним и духовным, возвышалось над естественностью обычного мира богов, было прогрессом всего этого направления за пределами политеизма народной религии; а таинственный, странный характер их культа, высвобождавшего все силы души, должен был укрепить в последователях Мистерий убеждение, что они находятся на верном пути к божеству, свободному от природы. —
Но не только Мистерии, казалось, предлагали возможность преодолеть политеизм и натурализм народной религии в пользу духовного монотеизма. Он уже существовал в иудейской религии и вел оживленную пропаганду повсюду в прибрежных городах Средиземноморья, где его последователи, будучи купцами, участвовали в торговле с греками. Иудейский национальный бог Яхве отбросил свою партикулярную ограниченность и природную обусловленность и, особенно после возвращения евреев из изгнания, все более возвышался до супраментального существа, отрешенного от всех национальных и политических барьеров. Да и сама национальная исключительность иудейской религии в значительной степени утратила свою строгость, поскольку евреи покинули страну, поселились среди чужих народов и переняли плоды их высочайшей культуры. Под влиянием греческого духа старые жесткие формы еврейского взгляда на мир и жизнь смягчились.
Произошло объединение еврейских и греческих и греческих идей, что привело к полной внутренней реорганизации иудаизма и максимальному приспособлению его к религиозным потребностям нееврейского мира. В ходе этого процесса иудейская религия углубилась, особенно в своей этической стороне, а в своем предположении о едином сверхъестественном и сверхчувственном Боге она обладала концепцией, которую греки, отчаявшись в многобожии, также рассматривали как высший религиозный идеал. Разумеется, мораль, которую она отстаивала, была полностью гетерономной, основанной на требовании слепого подчинения воле Бога, явленной в законе. Но это была еще одна причина, по которой люди того времени симпатизировали иудаизму; ведь поскольку они сами были лишены всякой внутренней поддержки и в своем отчаянии уже не знали, что делать, они были рады отдать свою беспомощность во власть безусловно обязательной воли.
Молодое христианство отличалось от иудейской религии не только трансцендентностью и духовностью своего представления о Боге, но скорее тем, как оно «опосредовало» единство человека и Бога и заменило жесткость иудейского закона верой в «благую весть» пророка из Назарета. Она включила в свой культ самые впечатляющие символы и события мистерий, отказавшись от всех излишеств религиозного аскетизма и экстаза. Но прежде всего она умела завоевать постоянно растущее число приверженцев благодаря пробуждаемой и культивируемой ею надежде на скорую мировую катастрофу и потустороннее блаженство, с которой она обращалась, в частности, к самому низкому, самому угнетенному и самому отчаявшемуся классу людей[3 - Христианство представляет собой своеобразный сплав греко-модифицированного иудаизма с представлением о мистериях. Выросшее на еврейской почве, оно объединяет одухотворенный монотеизм иудаизма и его исторический взгляд на религиозный процесс спасения с учением о спасении мистерий, с его верой в страдающего, умирающего и воскресшего Бога-Спасителя, и переносит эту веру на Иисуса, интерпретируя внутреннее освящение в результате мистического союза с Богом-Искупителем как реальное вечное блаженство после наступления близкой мировой катастрофы.]