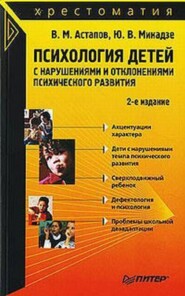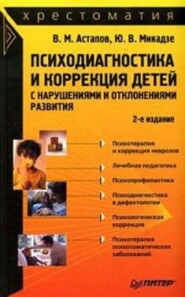По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тревога и тревожность. Хрестоматия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тревога и тревожность. Хрестоматия
Валерий Михайлович Астапов
В предлагаемом учебном пособии рассматривается одна из самых актуальных проблем современной психологии – проблема тревожности. Хрестоматия содержит тексты как зарубежных (Кьеркегор, Фрейд, Спилбергер, Ранк, Айзенк, Рикрофт), так и отечественных авторов, в работах которых тревога подвергается общепсихологическому анализу, фиксируются различные точки зрения и принципы подходов к ее исследованию, существенные для всестороннего понимания этого неоднозначно объясняемого психического явления.
Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов психологии, философии, медицинских и педагогических вузов.
В. М. Астапов
Тревога и тревожность
Хрестоматия
© В. М. Астапов, составление, перевод, 2008
© ООО «ПЕР СЭ», оригинал-макет, оформление, 2008
Введение
Проблема тревожности – узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь.
Зигмунд Фрейд
Тревога в мире человеческих переживаний – явление столь распространенное и имеет столько разных оттенков, что трудно решиться на попытку ее объяснения.
В каждом языке существует много различных определений этого психического состояния. Они представляют наилучшую, на многовековой опыт опирающуюся систему понятий, однако когда приходится давать определение таких понятий, как, например, страх и тревога, то, несмотря на то что, как правило, можно чувствовать правильность или неправильность употребления термина, дать его ясное и четкое определение не удается.
Впрочем, как пишет А. Кемпинский, обычно так бывает всегда, когда речь идет о понятиях, касающихся наиболее личных переживаний. Их можно чувствовать, но трудно определить.
Ни одна психологическая проблема не претерпела таких спадов и подъемов в своем изучении, как проблема тревожности. Если в 1927 г. в Psychological Abstracth приводилось всего 3 статьи, то в 1960-м – уже 222, а в 2000-м – более 600.
В отечественной психологии период активных исследований тревожности приходился на 1970-е – начало 1990-х гг.
Несмотря на большое количество исследований, можно было бы предположить, что предмет, обозначенный этим термином, имеет четкое и общепринятое определение. Однако, как в психиатрии, так и в психологии, мы сталкиваемся с большим разбросом мнений в определении тревожности.
Многозначность и семантическая неопределенность термина «тревожность» в психологии является следствием его использования в различных значениях. Это и гипотетическая «промежуточная переменная», и временное психическое состояние, возникшее под воздействием стрессовых факторов; и фрустрация социальных потребностей; и свойство личности, которое дается через описание внутренних факторов и внешних характеристик при помощи родственных понятий; и мотивационный конфликт.
Кроме того, ситуация осложняется тем, что в прикладных исследованиях используется много разнообразных терминов.
Действительно, на сегодняшний день в области изучения тревожности, как в психологии, так и в психиатрии гораздо больше сформулировано вопросов, чем найдено устраивающих современных исследователей ответов.
Однако следует отметить, что в настоящее время в психологической периодической печати все чаще появляются публикации, касающиеся проблемы тревожности. Это указывает на возрастание интереса к изучению этой проблемы.
Учитывая трудности, с которыми сталкиваются исследователи при изучении проблемы тревожности, особенно важно не только интегрировать уже имеющиеся достижения в этой области, но и заново критически осмыслить те направления исследований, которые были проведены.
К сожалению, основные фундаментальные работы по тревожности в последние годы не переиздавались. Поэтому мы сочли необходимым включить фрагменты из них в настоящую хрестоматию, а также представить читателю ранее неопубликованные статьи и фрагменты из книг зарубежных авторов, касающиеся теоретических проблем общей теории тревоги. В хрестоматии также размещен ряд работ отечественных авторов, представляющих основные направления исследований в этой области.
С. Кьеркегор
Страх и трепет[1 - Печатается по: Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат. – М.: Республика, 1993. – С. 143–147: 156–161. В книге Серена Кьеркегора – выдающегося датского философа и теолога, основоположника современного экзистенциализма – рассмотрены этические трактаты, которые являются наиболее важными для понимания его мировоззрения, проникнутого парадоксальностью, мистическими настроениями и тонким психологизмом в понимании нравственных начал человека.]
Понятие страха
Невинность – это неведение. В невинности человек не определен как дух, но определен душевно, в непосредственном единстве со своей природностью. Дух в людях грезит. Такое толкование находится в полном согласии с Библией, которая отказывает человеку, пребывающему в невинности, в знании различия между добром и злом и тем самым выносит окончательный приговор всем католическим фантазиям о заслуге.
В этом состоянии царствует мир и покой; однако, в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же воздействие имеет Ничто? Оно порождает страх. Такова глубокая таинственность невинности; она одновременно является страхом. В грезах дух отражает свою собственную действительность, однако эта действительность есть ничто, но это ничто постоянно видит невинность вне самого себя.
Страх – это определение грезящего духа, и в качестве такового оно принадлежит сфере психологии. Слабо различие, установленное между мною самим и моим иным, оно как бы подвешено в полусонном состоянии, в грезах оно едва обозначено как ничто. Действительность духа постоянно проявляется как форма, которая заманивает свою возможность и тут же ускользает, как только та готова за это уцепиться, – это Ничто, которое может лишь страшиться. На большее она не способна, пока она просто проявляется. Почти никогда не случается, чтобы понятие страха рассматривалось в психологии, а потому мне приходится обратить внимание на то, что оно совершенно отлично от боязни и подобных понятий, которые вступают в отношение с чем-то определенным: в противоположность этому страх является действительностью свободы как возможность для возможности. У животного невозможно обнаружить страх именно потому, что оно в своей природности не определено как дух.
Если мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что как раз они и наделены диалектической двусмысленностью. Страх – это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Мне кажется, нетрудно заметить, что это является психологическим определением в совершенно ином смысле, чем упомянутая concupiscentia. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.
Страх, полагаемый в невинности, является поэтому, во-первых, никакой не виной, а во-вторых, он вовсе не является некой утомительной тяжестью, неким страданием, что не может быть приведено в созвучие с блаженством невинности. Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает; ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойственен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение. Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некоей более поздней точке, где свобода, пройдя через все совершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой.
Таково же поэтому отношение страха к своему объекту, к чему-то, что есть Ничто (в речевой практике говорится: бояться ничто), совершенно двусмысленно, – таким образом, и переход, который и может быть сделан здесь от невинности к вине, становится как раз настолько диалектичным, что он показывает: разъяснение является таким, каким оно и должно быть, т. е. психологическим. Качественный прыжок лежит за пределами всякой двусмысленности, однако тот, кто через страх становится насквозь виновным, все же является невинным; ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, которой он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, который он все же любил, хоть и боялся его. В мире нет ничего более двусмысленного, чем это, и потому такое разъяснение является единственным возможным психологическим разъяснением, хотя оно, чтобы уж повторить это еще раз, никогда не позволяет себе предположить, что оно стремится стать разъяснением, объясняющим качественный прыжок. Всякое представление о том, что запрет прельщает его или что соблазнитель его обманул, имеет достаточную двусмысленность только для поверхностного наблюдения, искажает этику, осуществляет количественное определение и стремится с помощью психологии сделать человеку комплимент за счет этики; и каждый, кто этически развит, должен возражать против такого комплимента, как против нового и глубинного соблазна.
То, что страх становится явным, – краеугольный камень всего. Человек есть синтез душевного и телесного. Однако такой синтез немыслим, если эти два начала не соединяются в чем-то третьем. Это третье есть дух. В своей невинности человек не просто животное, поскольку будь он хоть одно мгновение своей жизни только животным, он вообще не стал бы никогда человеком. Стало быть, дух присутствует в настоящем, но как нечто непосредственное, нечто грезящее. Однако в той мере, в какой он присутствует в настоящем, он в определенной степени является чуждой силой; ибо он постоянно нарушает отношение между душой и телом, которое хотя и обладает постоянством, вместе с тем и не обладает им, поскольку получает это постоянство только от духа. С другой же стороны, это дружественная сила, которая как раз стремится основать такое отношение. Но каково же тогда отношение человека к такой двусмысленной силе, как относится дух к себе самому и своему условию? Он относится, как страх. Стать свободным от самого себя дух не может; постичь себя самого он также не может, пока он имеет себя вне самого себя; человек не может и погрузиться в растительное состояние, ибо он определен как дух; он не способен и ускользнуть от страха, ибо он его любит; но он и не способен действительно любить его, ибо он от него ускользает. Тут невинность достигает своей вершины. Она есть неведение, однако это не какая-то там животная грубость, но неведение, которое определено как дух; однако при этом она есть страх, поскольку ее неведение относится к Ничто. Здесь нет никакого знания добра и зла и тому подобного; но общая действительность знания отражается в страхе как ужасное ничто неведения.
Тут все еще присутствует невинность, однако достаточно произнести слово, чтобы сгустилось неведение. Невинность, естественно, не может понять этого слова, однако страх тут как бы поймал свою первую добычу, вместо ничто он получил некое загадочное слово. Как сказано об этом в Бытии, Бог промолвил Адаму: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него»; причем само собой понятно, что Адам, по сути, не понял этого слова; да и как он мог бы понять различение между добром и злом, если такое различение возникло лишь вместе со вкушением.
Если предположить теперь, что запрет пробуждает желание, мы получаем вместо неведения знание, поскольку тогда Адам должен был обрести знание свободы, ибо желание было направлено на то, чтобы ею воспользоваться. Поэтому такое разъяснение следует за развитием событий. Запрет страшит его, поскольку запрет пробуждает в нем возможность свободы. То, что мимолетно проскальзывает по невинности как ничто страха, теперь входит внутрь его самого; здесь оно снова есть ничто, страшащая его возможность мочь. Чем же является то, что он может, – об этом у него нет ни малейшего представления; ведь в противном случае окажется, как это обычно и происходит, что позднее предполагается заранее – т. е. само различие между добром и злом. Сама возможность мочь наличествует как более высокая форма неведения, как более высокое выражение страха, поскольку в некотором более высоком смысле он есть и не есть, ибо в некоем более высоком смысле он любит и ускользает.
За словами запрета следуют слова, устанавливающие наказание «смертью умрешь». Что означает умереть, Адам, конечно же, совсем не понимает, однако, если допустить, что это было ему сказано, его непонимание не препятствует тому, что он получает представление об ужасном. В этом отношении даже животное способно понять выражение лица и оттенки голоса говорящего человека, не понимая самих слов. В то время как запрет позволяет пробудиться желанию, слова о наказании должны позволить пробудиться ужасающему представлению. Все это, однако же, весьма запутывает. Ужасное потрясение здесь становится только страхом; ведь Адам не понял сказанного, и потому у него снова нет ничего, кроме двусмысленности страха. Бесконечная возможность мочь, которая пробудилась через запрет, теперь приближается благодаря тому, что эта возможность указывает на возможность как свое следствие.
Таким образом, невинность доводится до крайности. Вместе со страхом она вступает в отношение к запретному и к наказанию. Она невиновна, однако здесь присутствует страх, как будто она уже потеряна.
Дальше психология не способна ступить, однако это пока еще достижимо для нее, и прежде всего она может в своих наблюдениях снова и снова указывать на человеческую жизнь…
Объективный страх
Когда мы используем выражение «объективный страх», мы вполне можем после этого прийти к тому, чтобы помыслить страх невинности, который является сообразно своей возможности рефлексией свободы в самой себе. Возражение, будто не берется в расчет то обстоятельство, что мы находимся в ином месте внутри исследования, не может считаться удовлетворительным. Напротив, полезнее было бы припомнить о том, что отличие объективного страха заключено в его отграничении от страха субъективного, – это отличие, о котором не могло идти и речи в состоянии Адамовой невинности. В более строгом смысле слова, субъективный страх – это страх, положенный в индивиде и являющийся следствием его греха. О страхе в этом смысле будет говориться в последней главе. Но если слово «страх» должно пониматься таким образом, противоположность объективному страху исчезает, так что страх является как то, что он есть, – то есть как субъективное. Поэтому различие между объективным и субъективным страхом заложено в созерцании мира и состояния невинности последующего индивида. Здесь различение проводится так, что субъективный страх обозначает страх, пребывающий в невинности единичного индивида, что соответствует страху Адама, однако он количественно отличен от этого страха благодаря количественным определениям поколения. Напротив, под объективным страхом мы понимаем отражение этой греховности поколения во всем мире.
Во втором параграфе предшествующей главы мы напомнили, что выражение «через грех Адама греховность вошла в мир» содержит некую внешнюю рефлексию; здесь же – подходящее место для обращения к внутренней сути, которая все же может быть в нем заложена. В то мгновение, когда Адам полагает грех, наше рассмотрение оставляет его, чтобы обозреть начало греха каждого последующего индивида, ибо тем самым полагается поколение. В той мере, в какой через Адамов грех греховность рода полагается наряду с прямохождением и тому подобным, понятие индивида оказывается снятым. Это уже было рассмотрено в предшествующем изложении, где одновременно мы возражали против некоего экспериментирующего любопытства, которое стремится подойти к греху как к странному курьезу; там же была развернута дилемма: либо следует поэтически воображать вопрошающего в качестве человека, который не знает, о чем он спрашивает, либо вопрошающего нужно представлять себе как того, кто знает, что это такое, и чье предполагаемое неведение на деле становится новым грехом.
Если иметь в виду все вышесказанное, то выражение обретает свою ограниченную истинность. Первый элемент задаст общее качество. Стало быть, Адам полагает грех в самом себе, но также и для всего рода. Однако понятие рода слишком абстрактно, чтобы могла полагаться такая конкретная категория, как грех; она полагается как раз благодаря тому, что единичный индивид сам полагает ее в качестве единичного. Греховность в роде будет лишь количественно приближаться к этому; однако все это берет свое начало вместе с Адамом. В этом и состоит величайшее значение Адама в сравнении с любым другим индивидом в роде, в этом и заключена истина нашего выражения. Даже ортодоксия, коль скоро она стремится сама понять себя, вынуждена признать это, поскольку она учит, что с Адамовым грехом как род, так и природа впали в грех; правда, в случае с природой все же нельзя утверждать, будто грех вошел в нее как некое качество греха.
Когда грех вошел в мир, это оказалось исполненным значения для всего творения. Подобное воздействие греха на не-человеческое наличное существование я и назвал объективным страхом.
То, что здесь подразумевается, я могу разъяснить отсылкой к словам Писания о ???????????? ??? ??????? (Римл. 8,19). Поскольку речь идет о нетерпеливом ожидании, понятно, что творение пребывает в состоянии несовершенства. Употребляя такие выражения и определения, как тоска, томление, нетерпеливое ожидание и тому подобные, не всегда обращают внимание на то, что они заключают в себе некое предшествующее состояние, которое теперь оказывается настоящим и значимым в то самое время, когда развертывается томление. В состояние, в котором находится ожидающий, он попал случайно (тогда оно было бы совершенно чуждо ему), а сам одновременно производит само это состояние. Выражением подобного томления является страх; ибо в страхе возвещает о себе то состояние, из которого он выходит в томлении, и оно возвещает о себе, поскольку, будучи томлением, оно еще недостаточно, чтобы сделать его свободным.
В каком смысле через Адамов грех творение погрузилось в состояние гибели; каким образом свобода – насколько она полагается благодаря тому, что здесь ею злоупотребляют, – является отражением возможности и дрожью соучастия во всем творении; в каком смысле это должно было происходить, поскольку человек является синтезом, в котором были положены наиболее крайние противоречия; причем одна из этих противоположностей – именно благодаря греху человека – стала гораздо более крайней противоположностью, чем она была прежде, – все это не может найти себе места в психологическом рассмотрении, но принадлежит догматике, разделу о примирении, так что благодаря разъяснению примирения эта наука разъясняет также и предпосылку греховности[2 - Догматика как раз и должна толковаться таким образом. Каждая наука должна прежде всего энергично держаться за свое собственное начало и не вступать в сложные и запутанные связи с другими науками. Если догматика решает разъяснить греховность или доказать ее действительность, никакой догматики из этого никогда не получится, все ее существование станет проблематичным и туманным.].
Этот страх в творении можно по праву назвать объективным страхом. Он не производится творением, пет, он был произведен благодаря тому, что на все творение был брошен совершенно иной отсвет, когда через Адамов грех чувственность была подавлена, и, по мере того как грех продолжает входить в мир, она подавляется все больше и больше, начиная обозначить греховность. Нетрудно заметить, что такое истолкование отнюдь не слепо – в том смысле, что оно сознательно противостоит рационалистическому воззрению, согласно которому чувственность, как таковая, есть греховность. После того как грех вошел в мир, и всякий раз, когда грех входит в мир, чувственность становится греховностью; но тем, чем она становится, она отнюдь не была прежде. Франц Баадер достаточно часто возражал против того, чтобы конечность, чувственность, как таковая, считались греховностью. Но если не обратить на это внимание, пелагианство подступает совсем с другой стороны. Скажем, Ф. Баадер в своем определении не принимал в расчет историю рода. В количественном исчислении рода (т. е. со стороны его сущности) чувственность есть греховность; в отношении же к индивиду она не является таковой, пока сам этот индивид, полагая грех, не превратит эту чувственность в греховность.
Некоторые мыслители, принадлежащие школе Шеллинга, особенно ясно сознавали ту перемену, которая произошла с творением через грех. При этом также шла речь о страхе, который, как предполагается, должен пребывать в неодушевленной природе. Воздействие этой идеи, однако же, несколько ослаблено, поскольку временами кажется, будто ты, несомненно, имеешь дело с предметом натурфилософии, который остроумно рассматривается с помощью догматики, временами же – что тут присутствует некое догматическое определение, которое тешит себя отблесками чудесного волшебства, заложенного в созерцании природы.
Но тут я должен прервать это отступление, которому я позволил появиться только для того, чтобы па мгновение вывести пас за пределы данного исследования. Так что страх, пребывавший в Адаме, более уже никогда не возвратится, ибо через Адама греховность вошла в мир. Вследствие этого тот страх получает себе два соответствия: объективный страх в природе и субъективный страх в индивиде, причем в последнем содержится больше, а в первом – меньше страха, чем в Адаме.
Субъективный страх
Чем рефлективнее человек осмысливается полагать страх, тем легче, как может показаться, ему позволяют преобразоваться в вину. Здесь важно, однако же, не запутаться в приблизительных определениях, важно, что никакое «больше» не может осуществить прыжка и никакое «легче» не может сделать более легким объяснение действительности. Если этого не придерживаться четко, возникает серьезная опасность внезапно наткнуться на такое явление, в котором все происходит настолько легко, что переход становится простым переходом, – или же опасность будет состоять в том, что все идеи так никогда и не смогут прийти к заключению, поскольку чисто эмпирическое наблюдение никогда но может быть полностью завершено. Поэтому, хотя страх и становится все рефлективнее и рефлективнее, вина, которая вдруг появляется в страхе вместе с качественным прыжком, будет содержать в себе ту же степень исчисляемости, что и вина Адама, страх же будет иметь ту же самую двузначность.
Валерий Михайлович Астапов
В предлагаемом учебном пособии рассматривается одна из самых актуальных проблем современной психологии – проблема тревожности. Хрестоматия содержит тексты как зарубежных (Кьеркегор, Фрейд, Спилбергер, Ранк, Айзенк, Рикрофт), так и отечественных авторов, в работах которых тревога подвергается общепсихологическому анализу, фиксируются различные точки зрения и принципы подходов к ее исследованию, существенные для всестороннего понимания этого неоднозначно объясняемого психического явления.
Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов психологии, философии, медицинских и педагогических вузов.
В. М. Астапов
Тревога и тревожность
Хрестоматия
© В. М. Астапов, составление, перевод, 2008
© ООО «ПЕР СЭ», оригинал-макет, оформление, 2008
Введение
Проблема тревожности – узловой пункт, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы, тайна, решение которой должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь.
Зигмунд Фрейд
Тревога в мире человеческих переживаний – явление столь распространенное и имеет столько разных оттенков, что трудно решиться на попытку ее объяснения.
В каждом языке существует много различных определений этого психического состояния. Они представляют наилучшую, на многовековой опыт опирающуюся систему понятий, однако когда приходится давать определение таких понятий, как, например, страх и тревога, то, несмотря на то что, как правило, можно чувствовать правильность или неправильность употребления термина, дать его ясное и четкое определение не удается.
Впрочем, как пишет А. Кемпинский, обычно так бывает всегда, когда речь идет о понятиях, касающихся наиболее личных переживаний. Их можно чувствовать, но трудно определить.
Ни одна психологическая проблема не претерпела таких спадов и подъемов в своем изучении, как проблема тревожности. Если в 1927 г. в Psychological Abstracth приводилось всего 3 статьи, то в 1960-м – уже 222, а в 2000-м – более 600.
В отечественной психологии период активных исследований тревожности приходился на 1970-е – начало 1990-х гг.
Несмотря на большое количество исследований, можно было бы предположить, что предмет, обозначенный этим термином, имеет четкое и общепринятое определение. Однако, как в психиатрии, так и в психологии, мы сталкиваемся с большим разбросом мнений в определении тревожности.
Многозначность и семантическая неопределенность термина «тревожность» в психологии является следствием его использования в различных значениях. Это и гипотетическая «промежуточная переменная», и временное психическое состояние, возникшее под воздействием стрессовых факторов; и фрустрация социальных потребностей; и свойство личности, которое дается через описание внутренних факторов и внешних характеристик при помощи родственных понятий; и мотивационный конфликт.
Кроме того, ситуация осложняется тем, что в прикладных исследованиях используется много разнообразных терминов.
Действительно, на сегодняшний день в области изучения тревожности, как в психологии, так и в психиатрии гораздо больше сформулировано вопросов, чем найдено устраивающих современных исследователей ответов.
Однако следует отметить, что в настоящее время в психологической периодической печати все чаще появляются публикации, касающиеся проблемы тревожности. Это указывает на возрастание интереса к изучению этой проблемы.
Учитывая трудности, с которыми сталкиваются исследователи при изучении проблемы тревожности, особенно важно не только интегрировать уже имеющиеся достижения в этой области, но и заново критически осмыслить те направления исследований, которые были проведены.
К сожалению, основные фундаментальные работы по тревожности в последние годы не переиздавались. Поэтому мы сочли необходимым включить фрагменты из них в настоящую хрестоматию, а также представить читателю ранее неопубликованные статьи и фрагменты из книг зарубежных авторов, касающиеся теоретических проблем общей теории тревоги. В хрестоматии также размещен ряд работ отечественных авторов, представляющих основные направления исследований в этой области.
С. Кьеркегор
Страх и трепет[1 - Печатается по: Кьеркегор С. Страх и трепет / Пер. с дат. – М.: Республика, 1993. – С. 143–147: 156–161. В книге Серена Кьеркегора – выдающегося датского философа и теолога, основоположника современного экзистенциализма – рассмотрены этические трактаты, которые являются наиболее важными для понимания его мировоззрения, проникнутого парадоксальностью, мистическими настроениями и тонким психологизмом в понимании нравственных начал человека.]
Понятие страха
Невинность – это неведение. В невинности человек не определен как дух, но определен душевно, в непосредственном единстве со своей природностью. Дух в людях грезит. Такое толкование находится в полном согласии с Библией, которая отказывает человеку, пребывающему в невинности, в знании различия между добром и злом и тем самым выносит окончательный приговор всем католическим фантазиям о заслуге.
В этом состоянии царствует мир и покой; однако, в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же воздействие имеет Ничто? Оно порождает страх. Такова глубокая таинственность невинности; она одновременно является страхом. В грезах дух отражает свою собственную действительность, однако эта действительность есть ничто, но это ничто постоянно видит невинность вне самого себя.
Страх – это определение грезящего духа, и в качестве такового оно принадлежит сфере психологии. Слабо различие, установленное между мною самим и моим иным, оно как бы подвешено в полусонном состоянии, в грезах оно едва обозначено как ничто. Действительность духа постоянно проявляется как форма, которая заманивает свою возможность и тут же ускользает, как только та готова за это уцепиться, – это Ничто, которое может лишь страшиться. На большее она не способна, пока она просто проявляется. Почти никогда не случается, чтобы понятие страха рассматривалось в психологии, а потому мне приходится обратить внимание на то, что оно совершенно отлично от боязни и подобных понятий, которые вступают в отношение с чем-то определенным: в противоположность этому страх является действительностью свободы как возможность для возможности. У животного невозможно обнаружить страх именно потому, что оно в своей природности не определено как дух.
Если мы пожелаем рассмотреть диалектические определения страха, окажется, что как раз они и наделены диалектической двусмысленностью. Страх – это симпатическая антипатия и антипатическая симпатия. Мне кажется, нетрудно заметить, что это является психологическим определением в совершенно ином смысле, чем упомянутая concupiscentia. Это полностью подтверждается в речи, обычно говорят: сладкий страх, сладкое устрашение; говорят: удивительный страх, робкий страх и так далее.
Страх, полагаемый в невинности, является поэтому, во-первых, никакой не виной, а во-вторых, он вовсе не является некой утомительной тяжестью, неким страданием, что не может быть приведено в созвучие с блаженством невинности. Наблюдения за детьми позволяют обозначить этот страх как жадное стремление к приключениям, к ужасному, к загадочному. То, что бывают дети, в которых этот страх не обнаруживается, еще ничего не доказывает; ведь у животного его тоже нет, и чем меньше духа, тем меньше страха. Такой страх столь сущностно свойственен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением. И во всех народах, где детскость сохранилась как грезы духа, этот страх есть; и чем он глубже, тем глубже сам народ. Только прозаичная пошлость может полагать, будто тут содержится какое-то искажение. Страх обладает здесь тем же самым значением, что и тоска в некоей более поздней точке, где свобода, пройдя через все совершенные формы своей истории, в глубочайшем смысле должна наконец вернуться к себе самой.
Таково же поэтому отношение страха к своему объекту, к чему-то, что есть Ничто (в речевой практике говорится: бояться ничто), совершенно двусмысленно, – таким образом, и переход, который и может быть сделан здесь от невинности к вине, становится как раз настолько диалектичным, что он показывает: разъяснение является таким, каким оно и должно быть, т. е. психологическим. Качественный прыжок лежит за пределами всякой двусмысленности, однако тот, кто через страх становится насквозь виновным, все же является невинным; ибо он не сам стал таким, но страх, чуждая сила, подтолкнул его к этому, сила, которую он не любил, нет, сила, которой он страшился; и все же он виновен, ибо он погрузился в страх, который он все же любил, хоть и боялся его. В мире нет ничего более двусмысленного, чем это, и потому такое разъяснение является единственным возможным психологическим разъяснением, хотя оно, чтобы уж повторить это еще раз, никогда не позволяет себе предположить, что оно стремится стать разъяснением, объясняющим качественный прыжок. Всякое представление о том, что запрет прельщает его или что соблазнитель его обманул, имеет достаточную двусмысленность только для поверхностного наблюдения, искажает этику, осуществляет количественное определение и стремится с помощью психологии сделать человеку комплимент за счет этики; и каждый, кто этически развит, должен возражать против такого комплимента, как против нового и глубинного соблазна.
То, что страх становится явным, – краеугольный камень всего. Человек есть синтез душевного и телесного. Однако такой синтез немыслим, если эти два начала не соединяются в чем-то третьем. Это третье есть дух. В своей невинности человек не просто животное, поскольку будь он хоть одно мгновение своей жизни только животным, он вообще не стал бы никогда человеком. Стало быть, дух присутствует в настоящем, но как нечто непосредственное, нечто грезящее. Однако в той мере, в какой он присутствует в настоящем, он в определенной степени является чуждой силой; ибо он постоянно нарушает отношение между душой и телом, которое хотя и обладает постоянством, вместе с тем и не обладает им, поскольку получает это постоянство только от духа. С другой же стороны, это дружественная сила, которая как раз стремится основать такое отношение. Но каково же тогда отношение человека к такой двусмысленной силе, как относится дух к себе самому и своему условию? Он относится, как страх. Стать свободным от самого себя дух не может; постичь себя самого он также не может, пока он имеет себя вне самого себя; человек не может и погрузиться в растительное состояние, ибо он определен как дух; он не способен и ускользнуть от страха, ибо он его любит; но он и не способен действительно любить его, ибо он от него ускользает. Тут невинность достигает своей вершины. Она есть неведение, однако это не какая-то там животная грубость, но неведение, которое определено как дух; однако при этом она есть страх, поскольку ее неведение относится к Ничто. Здесь нет никакого знания добра и зла и тому подобного; но общая действительность знания отражается в страхе как ужасное ничто неведения.
Тут все еще присутствует невинность, однако достаточно произнести слово, чтобы сгустилось неведение. Невинность, естественно, не может понять этого слова, однако страх тут как бы поймал свою первую добычу, вместо ничто он получил некое загадочное слово. Как сказано об этом в Бытии, Бог промолвил Адаму: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него»; причем само собой понятно, что Адам, по сути, не понял этого слова; да и как он мог бы понять различение между добром и злом, если такое различение возникло лишь вместе со вкушением.
Если предположить теперь, что запрет пробуждает желание, мы получаем вместо неведения знание, поскольку тогда Адам должен был обрести знание свободы, ибо желание было направлено на то, чтобы ею воспользоваться. Поэтому такое разъяснение следует за развитием событий. Запрет страшит его, поскольку запрет пробуждает в нем возможность свободы. То, что мимолетно проскальзывает по невинности как ничто страха, теперь входит внутрь его самого; здесь оно снова есть ничто, страшащая его возможность мочь. Чем же является то, что он может, – об этом у него нет ни малейшего представления; ведь в противном случае окажется, как это обычно и происходит, что позднее предполагается заранее – т. е. само различие между добром и злом. Сама возможность мочь наличествует как более высокая форма неведения, как более высокое выражение страха, поскольку в некотором более высоком смысле он есть и не есть, ибо в некоем более высоком смысле он любит и ускользает.
За словами запрета следуют слова, устанавливающие наказание «смертью умрешь». Что означает умереть, Адам, конечно же, совсем не понимает, однако, если допустить, что это было ему сказано, его непонимание не препятствует тому, что он получает представление об ужасном. В этом отношении даже животное способно понять выражение лица и оттенки голоса говорящего человека, не понимая самих слов. В то время как запрет позволяет пробудиться желанию, слова о наказании должны позволить пробудиться ужасающему представлению. Все это, однако же, весьма запутывает. Ужасное потрясение здесь становится только страхом; ведь Адам не понял сказанного, и потому у него снова нет ничего, кроме двусмысленности страха. Бесконечная возможность мочь, которая пробудилась через запрет, теперь приближается благодаря тому, что эта возможность указывает на возможность как свое следствие.
Таким образом, невинность доводится до крайности. Вместе со страхом она вступает в отношение к запретному и к наказанию. Она невиновна, однако здесь присутствует страх, как будто она уже потеряна.
Дальше психология не способна ступить, однако это пока еще достижимо для нее, и прежде всего она может в своих наблюдениях снова и снова указывать на человеческую жизнь…
Объективный страх
Когда мы используем выражение «объективный страх», мы вполне можем после этого прийти к тому, чтобы помыслить страх невинности, который является сообразно своей возможности рефлексией свободы в самой себе. Возражение, будто не берется в расчет то обстоятельство, что мы находимся в ином месте внутри исследования, не может считаться удовлетворительным. Напротив, полезнее было бы припомнить о том, что отличие объективного страха заключено в его отграничении от страха субъективного, – это отличие, о котором не могло идти и речи в состоянии Адамовой невинности. В более строгом смысле слова, субъективный страх – это страх, положенный в индивиде и являющийся следствием его греха. О страхе в этом смысле будет говориться в последней главе. Но если слово «страх» должно пониматься таким образом, противоположность объективному страху исчезает, так что страх является как то, что он есть, – то есть как субъективное. Поэтому различие между объективным и субъективным страхом заложено в созерцании мира и состояния невинности последующего индивида. Здесь различение проводится так, что субъективный страх обозначает страх, пребывающий в невинности единичного индивида, что соответствует страху Адама, однако он количественно отличен от этого страха благодаря количественным определениям поколения. Напротив, под объективным страхом мы понимаем отражение этой греховности поколения во всем мире.
Во втором параграфе предшествующей главы мы напомнили, что выражение «через грех Адама греховность вошла в мир» содержит некую внешнюю рефлексию; здесь же – подходящее место для обращения к внутренней сути, которая все же может быть в нем заложена. В то мгновение, когда Адам полагает грех, наше рассмотрение оставляет его, чтобы обозреть начало греха каждого последующего индивида, ибо тем самым полагается поколение. В той мере, в какой через Адамов грех греховность рода полагается наряду с прямохождением и тому подобным, понятие индивида оказывается снятым. Это уже было рассмотрено в предшествующем изложении, где одновременно мы возражали против некоего экспериментирующего любопытства, которое стремится подойти к греху как к странному курьезу; там же была развернута дилемма: либо следует поэтически воображать вопрошающего в качестве человека, который не знает, о чем он спрашивает, либо вопрошающего нужно представлять себе как того, кто знает, что это такое, и чье предполагаемое неведение на деле становится новым грехом.
Если иметь в виду все вышесказанное, то выражение обретает свою ограниченную истинность. Первый элемент задаст общее качество. Стало быть, Адам полагает грех в самом себе, но также и для всего рода. Однако понятие рода слишком абстрактно, чтобы могла полагаться такая конкретная категория, как грех; она полагается как раз благодаря тому, что единичный индивид сам полагает ее в качестве единичного. Греховность в роде будет лишь количественно приближаться к этому; однако все это берет свое начало вместе с Адамом. В этом и состоит величайшее значение Адама в сравнении с любым другим индивидом в роде, в этом и заключена истина нашего выражения. Даже ортодоксия, коль скоро она стремится сама понять себя, вынуждена признать это, поскольку она учит, что с Адамовым грехом как род, так и природа впали в грех; правда, в случае с природой все же нельзя утверждать, будто грех вошел в нее как некое качество греха.
Когда грех вошел в мир, это оказалось исполненным значения для всего творения. Подобное воздействие греха на не-человеческое наличное существование я и назвал объективным страхом.
То, что здесь подразумевается, я могу разъяснить отсылкой к словам Писания о ???????????? ??? ??????? (Римл. 8,19). Поскольку речь идет о нетерпеливом ожидании, понятно, что творение пребывает в состоянии несовершенства. Употребляя такие выражения и определения, как тоска, томление, нетерпеливое ожидание и тому подобные, не всегда обращают внимание на то, что они заключают в себе некое предшествующее состояние, которое теперь оказывается настоящим и значимым в то самое время, когда развертывается томление. В состояние, в котором находится ожидающий, он попал случайно (тогда оно было бы совершенно чуждо ему), а сам одновременно производит само это состояние. Выражением подобного томления является страх; ибо в страхе возвещает о себе то состояние, из которого он выходит в томлении, и оно возвещает о себе, поскольку, будучи томлением, оно еще недостаточно, чтобы сделать его свободным.
В каком смысле через Адамов грех творение погрузилось в состояние гибели; каким образом свобода – насколько она полагается благодаря тому, что здесь ею злоупотребляют, – является отражением возможности и дрожью соучастия во всем творении; в каком смысле это должно было происходить, поскольку человек является синтезом, в котором были положены наиболее крайние противоречия; причем одна из этих противоположностей – именно благодаря греху человека – стала гораздо более крайней противоположностью, чем она была прежде, – все это не может найти себе места в психологическом рассмотрении, но принадлежит догматике, разделу о примирении, так что благодаря разъяснению примирения эта наука разъясняет также и предпосылку греховности[2 - Догматика как раз и должна толковаться таким образом. Каждая наука должна прежде всего энергично держаться за свое собственное начало и не вступать в сложные и запутанные связи с другими науками. Если догматика решает разъяснить греховность или доказать ее действительность, никакой догматики из этого никогда не получится, все ее существование станет проблематичным и туманным.].
Этот страх в творении можно по праву назвать объективным страхом. Он не производится творением, пет, он был произведен благодаря тому, что на все творение был брошен совершенно иной отсвет, когда через Адамов грех чувственность была подавлена, и, по мере того как грех продолжает входить в мир, она подавляется все больше и больше, начиная обозначить греховность. Нетрудно заметить, что такое истолкование отнюдь не слепо – в том смысле, что оно сознательно противостоит рационалистическому воззрению, согласно которому чувственность, как таковая, есть греховность. После того как грех вошел в мир, и всякий раз, когда грех входит в мир, чувственность становится греховностью; но тем, чем она становится, она отнюдь не была прежде. Франц Баадер достаточно часто возражал против того, чтобы конечность, чувственность, как таковая, считались греховностью. Но если не обратить на это внимание, пелагианство подступает совсем с другой стороны. Скажем, Ф. Баадер в своем определении не принимал в расчет историю рода. В количественном исчислении рода (т. е. со стороны его сущности) чувственность есть греховность; в отношении же к индивиду она не является таковой, пока сам этот индивид, полагая грех, не превратит эту чувственность в греховность.
Некоторые мыслители, принадлежащие школе Шеллинга, особенно ясно сознавали ту перемену, которая произошла с творением через грех. При этом также шла речь о страхе, который, как предполагается, должен пребывать в неодушевленной природе. Воздействие этой идеи, однако же, несколько ослаблено, поскольку временами кажется, будто ты, несомненно, имеешь дело с предметом натурфилософии, который остроумно рассматривается с помощью догматики, временами же – что тут присутствует некое догматическое определение, которое тешит себя отблесками чудесного волшебства, заложенного в созерцании природы.
Но тут я должен прервать это отступление, которому я позволил появиться только для того, чтобы па мгновение вывести пас за пределы данного исследования. Так что страх, пребывавший в Адаме, более уже никогда не возвратится, ибо через Адама греховность вошла в мир. Вследствие этого тот страх получает себе два соответствия: объективный страх в природе и субъективный страх в индивиде, причем в последнем содержится больше, а в первом – меньше страха, чем в Адаме.
Субъективный страх
Чем рефлективнее человек осмысливается полагать страх, тем легче, как может показаться, ему позволяют преобразоваться в вину. Здесь важно, однако же, не запутаться в приблизительных определениях, важно, что никакое «больше» не может осуществить прыжка и никакое «легче» не может сделать более легким объяснение действительности. Если этого не придерживаться четко, возникает серьезная опасность внезапно наткнуться на такое явление, в котором все происходит настолько легко, что переход становится простым переходом, – или же опасность будет состоять в том, что все идеи так никогда и не смогут прийти к заключению, поскольку чисто эмпирическое наблюдение никогда но может быть полностью завершено. Поэтому, хотя страх и становится все рефлективнее и рефлективнее, вина, которая вдруг появляется в страхе вместе с качественным прыжком, будет содержать в себе ту же степень исчисляемости, что и вина Адама, страх же будет иметь ту же самую двузначность.