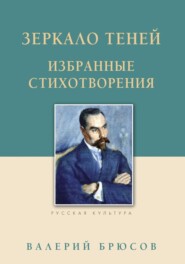По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Первая любовь
Автор
Год написания книги
1904
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Валерий Яковлевич Брюсов
«Я рассказал ему о своей первой любви. После мы долго молчали. Наконец он заговорил тихо, словно говоря самому себе:
– Нет, моя первая любовь была иная. Вернее, любви здесь и не было вовсе, была ненависть. Мне тогда было лет шестнадцать. По годам я был уже не мальчик. Но я был воспитан дома, среди женщин, не был ни в школе, ни в гимназии. Поэтому я совсем не знал жизни, был робок, застенчив, всегда углублен в себя. Впрочем, я много читал и много мечтал…»
Валерий Брюсов
Первая любовь
Признание приятеля
Я рассказал ему о своей первой любви. После мы долго молчали. Наконец он заговорил тихо, словно говоря самому себе:
– Нет, моя первая любовь была иная. Вернее, любви здесь и не было вовсе, была ненависть. Мне тогда было лет шестнадцать. По годам я был уже не мальчик. Но я был воспитан дома, среди женщин, не был ни в школе, ни в гимназии. Поэтому я совсем не знал жизни, был робок, застенчив, всегда углублен в себя. Впрочем, я много читал и много мечтал.
Зимой я перенес довольно опасную болезнь, и весной доктора меня послали на юг, в Крым. Отец настоял, чтобы я ехал один, без провожатого. В Крыму я должен был жить в Судаке, у нашего родственника, Николая Николаевича Пряхова, у которого была там своя дача. Жену его звали Антониной. Этой женщине, которой было тогда уже за тридцать, мне и пришлось дать свои первые клятвы любви. Но, повторяю, я ее ненавидел.
Наш роман начался с первого дня встречи. Помню, я приехал усталым, но опьяненным и этой усталостью, и всем новым, что открылось мне: морем, миром гор, южным воздухом. А Антонина, едва дав мне напиться чаю, увела меня в горы. Среди разноцветных скал, причудливо изогнутых сосен и весенних крокусов – я почувствовал себя причастным жизни природы. Антонина казалась мне не то товарищем, не то каким-то стихийным существом, лесной девой.
Вечером мы спустились с ней к морю. Светила луна. Ее лучи падали в воду и превращались в тысячи извивающихся змей, которые неустанно сплетали и расплетали свои блестящие кольца. Далекая горная стена казалась подступившей к самому берегу и загородившей весь остальной мир. Мы были словно замкнуты в сказочной области. Все было возможно, все было прекрасно. Мы сели у самого прибоя на камне. Я взял Антонину за руки и целовал ее в глаза и в губы, потому что это соответствовало всему, что было во мне, и всему, что нас окружало. Она тихо смеялась на мои поцелуи.
Когда на другой день, утром, мы сошлись за кофе, между нами уже была тайна. Антонина показалась мне немолодой и некрасивой. Ничто не влекло меня к ней. Но когда она чуть-чуть улыбнулась мне, я не мог не ответить ей. За кофе я разговаривал с Николаем Николаевичем о родных. Когда же он ушел, Антонина спросила меня:
– Я утром всегда лежу в гамаке, хотите мне читать? Смутное сознание советовало мне отказаться, но я ответил в тон вчерашнему вечеру:
– А вы думаете, я могу хотеть чего-нибудь иного?
Этот ответ решил мою судьбу.
В музыке от выбора тональности зависит весь склад пьесы. Первые слова дают направление всему разговору. Наши первые поступки в новом обществе обусловливают все наше дальнейшее поведение. Та роль влюбленного пажа, которую я принял на час, – поработила меня. Какое-то особое чувство не позволяло мне с той минуты ни сказать слова, ни сделать поступка, которые нарушили бы выбранный мною тип. Это было, конечно, то чутье художника, которое не допускает прерывать мелодию диссонансом, вставлять в стихи слова, противоречащие стилю пьесы, и класть на полотне рядом дисгармонирующие краски.
С этого дня началось мое рабство.
Я почти не отходил от Антонины. Я старался предупредить ее мимолетные желания: достать ей цветов, принести веер, кресло… Когда Антонина уходила куда-нибудь, я всегда следил за ней глазами: я знал, что она обернется и, торжествуя, поймает мой взгляд. Когда она бывала у себя в комнате, я садился в саду под платаном и смотрел на ее задернутое шторой окно. Когда мы оставались наедине, я вымаливал у нее позволения поцеловать ее руку.
И как я ненавидел Антонину за это рабство!
Каждый вечер, ложась спать, я давал себе клятву, что встану на другой день свободным. Но утром, встретив первый взгляд Антонины, я попадал безнадежно в круг прежних слов и прежних поступков. У меня не было воли разорвать эту крепкую цепь. Как вол, я вновь покорно подставлял шею под ярмо собственной лжи.
Впрочем, в один из первых дней я сделал попытку бежать. Встав до зари, я ушел в лес, провел там весь день, упивался свободой. Но настал вечер.
Надо было вернуться. Подходя к калитке нашей дачи, я почувствовал, что возвращаюсь к рабству. Я вошел в сад, как пойманный беглец.
Антонина сидела на террасе. Она намеренно не взглянула на меня. Ей хотелось меня наказать. Как я рад был бы продолжить это наказание до бесконечности! Но то же самое художественное чувство подсказывало мне что влюбленный паж должен подойти к своей царице и, не стыдясь унижения, каяться и просить прощения.
Выбрав время, я это сделал. Я сказал Антонине:
– Я думал убежать от своей любви. Но только яснее увидел, что не она во мне, а я в ней. Любовь к вам – мой горизонт. Куда бы я ни пошел, мое сердце всегда будет в центре его.
Вскоре после этого к нам на дачу приехали на несколько дней два молодых офицера. Втайне я мечтал, что Антонина влюбится в одного из них, по крайней мере, предпочтет их ухаживания моим. Но открыто я ее ревновал к ним, ревновал дерзко, по-мальчишески. После одной из моих выходок Антонина прогнала меня.
– Убирайтесь от меня и не смейте мне на глаза попадаться!
Я делал вид, что в отчаянии. Но сам убежал, дрожа от блаженства. Те два дня, что я находился в опале, были для меня счастливейшими днями в Крыму. Потом Антонина простила меня, позволила мне вновь быть с ней. Я готов был плакать, но делал вид, что счастлив безмерно.
Кто мне странным образом нравился – это муж Антонины, Николай Николаевич. Он был математик по образованию, а я увлекался математикой. У него был на даче хороший телескоп. Я отдыхал душой, когда мне удавалось убежать к нему от Антонины и вместе с ним ловить ускользающие планеты. Я заслушивался его объяснений разных вопросов высшей математики и философии чисел… Но мое ухаживание за Антониной было слишком грубым. Сначала Николай Николаевич смеялся над ним; потом, видимо, оно рассердило его, и он начал удаляться от меня.
В середине мая Антонина назначила мне свидание ночью.
Я выбрался из своей комнаты, неся башмаки на руках. Я узнал в ту ночь впервые, что знают любовники и воры: как неестественно громко скрипят половицы в ночном безмолвии. Я дождался Антонину в саду. Она пришла свежая, веселая, словно после утреннего купанья. Она хохотала над своим мужем, который спал с ней в одной комнате и не слышал, как она ушла. Мне ее хохот был противен.
Лежал туман, но мы пошли в горы и поднялись выше тумана. Мы бродили по обрывистым, осыпающимся тропинкам в полном мраке крымской ночи. Когда, обернувшись, мы смотрели на море, – его не было. Было только небо, в вышине со звездами, а внизу без звезд.
Пока мы шли, меня мучила одна мысль: что Антонина захочет отдаться мне, как любовнику. При этой мысли я трепетал от ужаса и отвращения. Но когда мы сели где-то на лужайке, на влажном дерне, я, целуя ее руки, стал умолять ее именно об этом. Она тихо смеялась и отказывала мне. Я с ненавистью обнимал ее упругое тело и клялся ей в любви. Когда же она говорила мне: «Ты – моя маленькая прихоть», – я готов был задушить ее.
Так провели мы там несколько часов. Я – умолял и боялся, что она согласится. Она смеялась на мои мольбы. Когда настало время возвращаться домой, я долго просил ее помедлить, побыть со мной еще несколько минут, несколько мгновений. А в действительности я страстно хотел вернуться скорей, поспешней. Меня мучила мысль, что наше отсутствие могут заметить; я думал о муже Антонины. Воображая, что он скажет мне, если узнает, что подумает обо мне, – я весь изнемогал… не от страха, о, нет! а от детского сжимающего стыда.
Когда мы подходили к даче и на нас лаяли собаки, я едва держался на ногах от волнения. В доме все спали. Поняв, что все обошлось благополучно, я почти молился от счастья.
Но, прощаясь, Антонина сказала мне:
– Завтра приходи опять, и, может быть, я буду добрее…
В темноте я не видел ее глаз, но она, вероятно, лукаво улыбалась. Мне представилось, что кто-то ударил меня прямо по лицу. Наклонившись, я стал опять целовать руку Антонины, словно стараясь скрыть блаженное смущение.
Трудно рассказать, что испытывал я, оставшись наедине сам с собой. Во мне как бы боролись два существа. Одно – сотворенное мной самим, я – выдуманный мною, я – художественно сочиненный образ впервые влюбленного юноши. Другое – подлинный я, подавленный, порабощенный этим призраком, этим фантомом. Мое подлинное я с омерзением отрекалось от старой развратной кокетки; мое выдуманное я побуждало меня ликовать и праздновать близкую победу…
Когда вдруг я понял, что начинаю играть роль уже и сам перед собой что уже не для Антонины только и не для других, а сам для себя я изображаю влюбленного, – меня охватил крайний ужас. У меня почти закружилась голова, так как я потерял различие, где правда, где ложь, где действительность, где вымысел… Мой выдуманный образ готов был вы теснить, уничтожить подлинное мое существо. Я понял, что гибну.
Весь следующий день я чувствовал себя как приговоренный. Я был уверен, что у меня не достанет сил бороться, что если ночью Антонина отдастся мне, я возьму ее тело со всем восторгом, какой обязан проявит! влюбленный, желания которого наконец удовлетворены. И в то же время я был убежден, что после этого мое выдуманное, призрачное я навсегда воцарится в моей душе, и я навек как бы утрачу сам себя, свою истинную личность… Я уже подумывал о том, чтобы пойти на берег и броситься вниз в обрывистую глубину Черного моря. Я не видел иного исхода.
Настала ночь. Сердце мое стучало. Я опять осторожно выбрался в сад. Антонины еще не было. Я подождал ее несколько минут. Потом вдруг решился. Озираясь, я выбрался на дорогу – и побежал. Побежал, как беглец. Я старался не думать. Я знал, что если начну раздумывать, то вернусь.
Я шел всю ночь. Утром попросил приюта в татарской деревне. Отдохнув, пошел опять. Я добрался пешком до Феодосии. Со мной было несколько рублей, и я мог доехать до Москвы.
Когда я неожиданно явился домой к родным, они ужаснулись. Я бы похож на выходца из могилы. В тот же день я опять слег и был болен долго, много недель.
Вот что я считаю своею первою любовью.