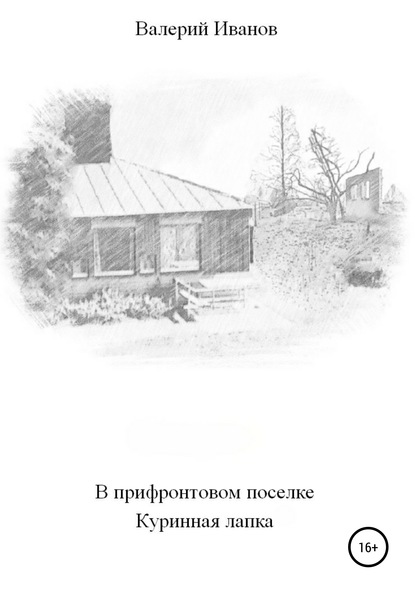По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
В прифронтовом поселке Куриная лапка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В прифронтовом поселке Куриная лапка
Валерий Иванов
Повесть о том, как красноармеец Прокопенко застиг последние дни Великой Отечественной войны в одном из пригородных поселений Германии. О взаимоотношениях между немецким поселением и русскими солдатами.
На пороге к Берлину. Весна 1945-го года. Последние дни войны. Вдалеке, за лесной грядой и темным, почерневшим от огня полем, раздавались едва различимые взрывы. Только что перестал моросить первый весенний дождик.
По разрыхленному от взрывов бомб полю четыре человека в военной форме, оглядываясь по сторонам, осматривали немецкие хижины. Другие вальяжно переставляли свои уставшие ноги, шагая по безжизненной улице маленького немецкого поселения. У одного из солдат ненавязчиво бренчали привязанные к походному рюкзаку кухонные принадлежности.
Военнослужащие направлялись к дому, расположенному чуть дальше от других. Лес, из которого появились солдаты, рос примерно в двухстах метрах от деревни. И первый дом, который оказался на их пути, был в большой запущенности. От разорвавшейся в палисаднике бомбы на жилище остались большие трещины, расходящиеся паутиной по стенам. Выбитые стекла, покосившаяся от ударной волны верхняя часть трубы, выползшие кирпичи – все это говорило о заброшенности дома. Предположение, что, скорей всего, там никто больше не живет, оставляло надежду найти кого-либо из живых или съестное.
Поле, по которому они прошли, когда-то покрывала ранняя трава, сейчас наполовину выгорело. Почерневшие соломины колосьев представляли всю ту неотвратимую гибель и необратимый урон, который причинила война населению.
– Алле, хозяюшка! – один из солдат, приблизившись к другому дому, постучал по стеклу, дотянувшись до окошка. – Отворяй ворота! Солдаты голодные и хотели бы перекусить чего-нибудь…
Не надеясь получить ответа, солдат, постучав еще несколько раз и уверившись, что его старания тщетны, опустил руку, дружелюбная улыбка сошла с лица.
– Да че ты тут раздалбываешь немецкие веники, Панкрат. Все равно тебя тут никто не ждет, и никто не откроет.
– Приступом надо брать, товарищ старшина! – другой солдат в потрепанной и испачканной пилотке крепко держался за лямку походного мешка. По всей видимости, у него было особое отношение к немецкому народу.
– Как над полесьем у Дона в сорок третьем: аж сразу всю стаю голубанчиков тогда, я помню, погнали по степи. Вот это был улов! Что тут теребениться, сходу… – дополнил он.
– Отставить, Захвалов! – скомандовал старшина.
Солдат, предложивший о приступе дома, уже успел завернуть за его угол, но, услышав приказ командира, не решился штурмовать дверь. Однако он уже успел вскочить на ступени крыльца и на влажных досках едва удержался на ногах.
Ефрейтор Прокопенко стряхнул с края бушлата кусок грязи, пока он не въелся в ткань. Никто не знает, как придется встречать местных жителей. Возможно, там засада из выживших из ума немецких солдат, никак не принимавших поражение Германии, и вновь придется принимать бой. Так лучше, подумал он, встретить его в опрятном состоянии. Кто знает, быть может, этот бой для него окажется последним. Подумав об этом, солдат отправился к старшине, но не успел набить трубку табаком, как изнутри послышались звуки отпиравшегося засова. Солдаты зашли внутрь. В избе было свежо и уютно, словно война и не коснулась домашней обстановки. И только взгляд строгой, но вместе с тем казавшейся напуганной хозяйки выдавал неприязненное отношение.
– Ты, женщина, – обратился Прокопенко (за годы войны он забыл, как обращаться и разговаривать с женским полом) к хозяйке, – мм… сорри, фрау, – стараясь умилостивить разными иностранными словами, какие только знал, спешно уплетал ложкой горячий суп. – Вот ты, наверное, думаешь, фрау… простите, как по батюшке? Ага, не понимает, номен, номен зух, кажется.
Женщина стояла возле печи и боялась шелохнуться. Вдруг русские солдаты, думала она, вздумают сделать что-нибудь с ней.
В сорок третьим году ей пришло известие, что ее сын – Гейнц Вильгенцштаус – геройски погиб на войне во имя своего фюрера, там же была приписка, что немецкий народ отомстит за Гейнца и за многих солдат нации, с призывом не принимать у себя в домах русских солдат.
– Ладно. Ты вот, наверное, думаешь, к тебе пришли захватчики. Рожь всю вашу тут поперевытоптали, дома снарядами поразбросали, – скорее, размышлял вслух Прокопенко, чем обращался к хозяйке дома, – а вот вы… – в его глазах внезапно блеснула искра ненависти, и он сам не заметил, как повысил голос. Солдат стиснул зубы и словно застыл, его будто не стало. Казалось, Прокопенко забыл о еде. Забыл о том, что он находится в гостях у совершенно незнакомого ему человека. В данный момент для него все, кто говорил на немецком языке, считались его личным врагом.
– …Фрицы недорезанные! Всю землю русскую нашу перетоптали! Людей наших… Детей наших сиротами оставили! Что прижимаешься тут к углу? Сама тут своих гадов вот хлебом прикармливала, а вот тут пустой похлебкой нас затравить решила? Соли и то нет. Ух, ведьма! – разошелся солдат.
– Успокойся, Панкрат, что ты взбеленился? Она же все равно не понимает, – рядом сидевший красноармеец, в отличие от Прокопенко, без полосок на погонах, попытался успокоить товарища.
– А хоть и не понимает, все равно чувствует. Вон как прижалась в углу! Щас запустит чем-нибудь… – продолжил ефрейтор.
За всю войну Панкрат Прокопенко повидал много гибели своих друзей и однополчан и к концу войны стал плохо сдерживать свою ярость к противнику. Как только заслышит немецкую речь, будь то молод или стар, ненависть руководила его разумом.
Вдруг послышалось, как в коридоре закрылась дверь. Прокопенко едва успел доесть оставшиеся две ложки супа, как в проеме кухни появилась фигура старшины Малышева, сворачивавшего папироску.
– Верден нихт саген, се хейбт, дас дорт, унд об виел, дайе лютее хир лебт? – обратился он на ломаном немецком языке к женщине, стоявшей спиной к печи. Но та продолжала молчать, не отвечая даже на понятный ей ломаный немецкий язык старшины.
Женщине было около пятидесяти лет. Она была одета в традиционную немецкую одежду, кудрявые волосы забраны в пучок. Затаив дыхание, сжимая руки в кулаки, она была готова ко всему, что скажет ей гер солдат. Однако она всецело отказывалась разговаривать с этими чужаками.
– Sagen sie was es fur die Stelle?
– Хэх, – ухмыльнулся кто-то из-за стола, – ничего она не скажет, гляди – она язык проглотила.
Малышев выждал немного времени, но ответа не последовало.
– Ладно, ребята, – повернулся он к солдатам, – сегодня переночуем здесь. А завтра двинемся. Наши ребята, наверное, уже давно на станциях Берлин по кускам растаскивают.
– Да, Мирон, утро вечера мудренее. Айда, парни, на немецких пожитках разлягать, – раздался голос одного из солдат.
Два красноармейца двадцати трех и двадцати четырех лет ничем не отличались от других. Они были обычными рядовыми. Не проронив ни слова, словно по команде, доев, они встали из-за стола и скрылись в маленькой комнате. Один из них, чуть слышно поскрипывая пружинами, разлегся на кровати, другой, разложив на полу большой матрац, моментально заснул на нем. Остальные, разложив диван в комнате для гостей, отличавшейся от других комнат немного большим размером, улеглись на нем, укрывшись мягким покрывалом.
Спустя час Прокопенко, проснувшись, понял, что не сможет снова заснуть. Встал, направился к выходу покурить. Приоткрыв дверь, ведущую в сени, он внезапно остановился, услышав во дворе чьи-то голоса.
– … Und sagen, Frau Erna. Lassen Sie k?nnen. Lassen Sie sich die russische zu graben die Gr?ber werden. Nicht knechten, sie Niemandsland. Weder das Gl?ck, sie werden nicht auf sich allein gestellt.[1 - Так и скажи госпоже Эрне. Пусть сделает, что сможет. Пусть русские сами себе могилы рыть будут. Да не властвовать им ни на чьей земле. Ни счастья им не будет и на своей.]
В сенях Прокопенко услышал, как там что-то прогремело. Хозяйка дома Ундина обернулась и прислушалась. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился ефрейтор.
– Это что же, вражья твоя сила?! Значит, лазутчиков отправляем, чтобы нас тут всех порубали?! – возмутился, было, Панкрат, но подавил в себе желание высказаться перед и так напуганной женщиной.
Он понимал: перед ним стоит беззащитный человек. Девочка, которую он узнал по детскому голосу, уже успела убежать. Она скрылась через скрипучую калитку и направилась к стоящим поодаль домам.
– Ты пойми, женщина, – солдат спустился со ступенек крыльца, кособоко надев затасканную пилотку.
– Коммунист – он же не враг, не злой, он ведь добра желает всему человечеству, порядка, – Прокопенко старался выделять каждое слово, – ведь мы, русские, тоже землю свою защищаем, русскую, а вы вот со всем вашим, простите…
Он не мог найти подходящего слова.
– Отребьем, фюрером бестолковым только краски сгущаете. Ты пойми, женщина, фрау, как вас там… что война это не есть гут, это есть плох, – с сарказмом передразнил он одного из пленных немецких солдат, который согласился однажды в том, что война – это плохо, когда с ним один из военных решил провести нравоучительную беседу.
Встретив безучастный взгляд немки, Панкрат понял, что продолжать разговор было бессмысленно. Он сплюнул, без ненависти, положил в рот закрученную в бумагу махорку и, отведя взгляд от иноземки, решил прогуляться по двору.
Несмотря на темнеющие небеса, погода налаживалась. Влажный воздух становился теплее, и Прокопенко не жалел, что оставил бушлат в доме.
С запада едва были слышны ставшие уже редкими раскаты разрывающихся снарядов. Солдат заметил, что женщина продолжала стоять неподалеку от дома и, по всей видимости, не собиралась входить внутрь. Отойдя от нее на два метра, он вновь обратил на нее внимание. Женщина казалась постаревшей и жалкой.
– Саму-то, мать, как звать? – спросил он более спокойным голосом.
Он не знал, как умилостивить напуганную женщину.
Она продолжала молча стоять, не шелохнувшись. Казалось, она онемела и готова была простоять во дворе в таком состоянии всю ночь.
– Ну, ладно, – солдат бросил окурок в сторону, – ты, мать, не обижайся, что я тогда… это я сгоряча… война. Сама понимаешь.
Панкрат, продолжая не замечать скованность женщины, говорил как можно спокойнее, чтобы она не боялась его.
– А если кто и погиб у тебя на войне-то, – продолжал он, – так это война, сама понимать должна…
Он не стал рассказывать, как в поле ему и его товарищам приходилось спасаться от разрывающихся рядом снарядов под Горячевкой, как на его глазах разлетались в стороны куски тел однополчан. Война принесла много потерь как фашистским оккупантам, так и советским солдатам. Еще раз он посмотрел на зарево, опускающееся на горизонте, и приоткрыл дверь.
Валерий Иванов
Повесть о том, как красноармеец Прокопенко застиг последние дни Великой Отечественной войны в одном из пригородных поселений Германии. О взаимоотношениях между немецким поселением и русскими солдатами.
На пороге к Берлину. Весна 1945-го года. Последние дни войны. Вдалеке, за лесной грядой и темным, почерневшим от огня полем, раздавались едва различимые взрывы. Только что перестал моросить первый весенний дождик.
По разрыхленному от взрывов бомб полю четыре человека в военной форме, оглядываясь по сторонам, осматривали немецкие хижины. Другие вальяжно переставляли свои уставшие ноги, шагая по безжизненной улице маленького немецкого поселения. У одного из солдат ненавязчиво бренчали привязанные к походному рюкзаку кухонные принадлежности.
Военнослужащие направлялись к дому, расположенному чуть дальше от других. Лес, из которого появились солдаты, рос примерно в двухстах метрах от деревни. И первый дом, который оказался на их пути, был в большой запущенности. От разорвавшейся в палисаднике бомбы на жилище остались большие трещины, расходящиеся паутиной по стенам. Выбитые стекла, покосившаяся от ударной волны верхняя часть трубы, выползшие кирпичи – все это говорило о заброшенности дома. Предположение, что, скорей всего, там никто больше не живет, оставляло надежду найти кого-либо из живых или съестное.
Поле, по которому они прошли, когда-то покрывала ранняя трава, сейчас наполовину выгорело. Почерневшие соломины колосьев представляли всю ту неотвратимую гибель и необратимый урон, который причинила война населению.
– Алле, хозяюшка! – один из солдат, приблизившись к другому дому, постучал по стеклу, дотянувшись до окошка. – Отворяй ворота! Солдаты голодные и хотели бы перекусить чего-нибудь…
Не надеясь получить ответа, солдат, постучав еще несколько раз и уверившись, что его старания тщетны, опустил руку, дружелюбная улыбка сошла с лица.
– Да че ты тут раздалбываешь немецкие веники, Панкрат. Все равно тебя тут никто не ждет, и никто не откроет.
– Приступом надо брать, товарищ старшина! – другой солдат в потрепанной и испачканной пилотке крепко держался за лямку походного мешка. По всей видимости, у него было особое отношение к немецкому народу.
– Как над полесьем у Дона в сорок третьем: аж сразу всю стаю голубанчиков тогда, я помню, погнали по степи. Вот это был улов! Что тут теребениться, сходу… – дополнил он.
– Отставить, Захвалов! – скомандовал старшина.
Солдат, предложивший о приступе дома, уже успел завернуть за его угол, но, услышав приказ командира, не решился штурмовать дверь. Однако он уже успел вскочить на ступени крыльца и на влажных досках едва удержался на ногах.
Ефрейтор Прокопенко стряхнул с края бушлата кусок грязи, пока он не въелся в ткань. Никто не знает, как придется встречать местных жителей. Возможно, там засада из выживших из ума немецких солдат, никак не принимавших поражение Германии, и вновь придется принимать бой. Так лучше, подумал он, встретить его в опрятном состоянии. Кто знает, быть может, этот бой для него окажется последним. Подумав об этом, солдат отправился к старшине, но не успел набить трубку табаком, как изнутри послышались звуки отпиравшегося засова. Солдаты зашли внутрь. В избе было свежо и уютно, словно война и не коснулась домашней обстановки. И только взгляд строгой, но вместе с тем казавшейся напуганной хозяйки выдавал неприязненное отношение.
– Ты, женщина, – обратился Прокопенко (за годы войны он забыл, как обращаться и разговаривать с женским полом) к хозяйке, – мм… сорри, фрау, – стараясь умилостивить разными иностранными словами, какие только знал, спешно уплетал ложкой горячий суп. – Вот ты, наверное, думаешь, фрау… простите, как по батюшке? Ага, не понимает, номен, номен зух, кажется.
Женщина стояла возле печи и боялась шелохнуться. Вдруг русские солдаты, думала она, вздумают сделать что-нибудь с ней.
В сорок третьим году ей пришло известие, что ее сын – Гейнц Вильгенцштаус – геройски погиб на войне во имя своего фюрера, там же была приписка, что немецкий народ отомстит за Гейнца и за многих солдат нации, с призывом не принимать у себя в домах русских солдат.
– Ладно. Ты вот, наверное, думаешь, к тебе пришли захватчики. Рожь всю вашу тут поперевытоптали, дома снарядами поразбросали, – скорее, размышлял вслух Прокопенко, чем обращался к хозяйке дома, – а вот вы… – в его глазах внезапно блеснула искра ненависти, и он сам не заметил, как повысил голос. Солдат стиснул зубы и словно застыл, его будто не стало. Казалось, Прокопенко забыл о еде. Забыл о том, что он находится в гостях у совершенно незнакомого ему человека. В данный момент для него все, кто говорил на немецком языке, считались его личным врагом.
– …Фрицы недорезанные! Всю землю русскую нашу перетоптали! Людей наших… Детей наших сиротами оставили! Что прижимаешься тут к углу? Сама тут своих гадов вот хлебом прикармливала, а вот тут пустой похлебкой нас затравить решила? Соли и то нет. Ух, ведьма! – разошелся солдат.
– Успокойся, Панкрат, что ты взбеленился? Она же все равно не понимает, – рядом сидевший красноармеец, в отличие от Прокопенко, без полосок на погонах, попытался успокоить товарища.
– А хоть и не понимает, все равно чувствует. Вон как прижалась в углу! Щас запустит чем-нибудь… – продолжил ефрейтор.
За всю войну Панкрат Прокопенко повидал много гибели своих друзей и однополчан и к концу войны стал плохо сдерживать свою ярость к противнику. Как только заслышит немецкую речь, будь то молод или стар, ненависть руководила его разумом.
Вдруг послышалось, как в коридоре закрылась дверь. Прокопенко едва успел доесть оставшиеся две ложки супа, как в проеме кухни появилась фигура старшины Малышева, сворачивавшего папироску.
– Верден нихт саген, се хейбт, дас дорт, унд об виел, дайе лютее хир лебт? – обратился он на ломаном немецком языке к женщине, стоявшей спиной к печи. Но та продолжала молчать, не отвечая даже на понятный ей ломаный немецкий язык старшины.
Женщине было около пятидесяти лет. Она была одета в традиционную немецкую одежду, кудрявые волосы забраны в пучок. Затаив дыхание, сжимая руки в кулаки, она была готова ко всему, что скажет ей гер солдат. Однако она всецело отказывалась разговаривать с этими чужаками.
– Sagen sie was es fur die Stelle?
– Хэх, – ухмыльнулся кто-то из-за стола, – ничего она не скажет, гляди – она язык проглотила.
Малышев выждал немного времени, но ответа не последовало.
– Ладно, ребята, – повернулся он к солдатам, – сегодня переночуем здесь. А завтра двинемся. Наши ребята, наверное, уже давно на станциях Берлин по кускам растаскивают.
– Да, Мирон, утро вечера мудренее. Айда, парни, на немецких пожитках разлягать, – раздался голос одного из солдат.
Два красноармейца двадцати трех и двадцати четырех лет ничем не отличались от других. Они были обычными рядовыми. Не проронив ни слова, словно по команде, доев, они встали из-за стола и скрылись в маленькой комнате. Один из них, чуть слышно поскрипывая пружинами, разлегся на кровати, другой, разложив на полу большой матрац, моментально заснул на нем. Остальные, разложив диван в комнате для гостей, отличавшейся от других комнат немного большим размером, улеглись на нем, укрывшись мягким покрывалом.
Спустя час Прокопенко, проснувшись, понял, что не сможет снова заснуть. Встал, направился к выходу покурить. Приоткрыв дверь, ведущую в сени, он внезапно остановился, услышав во дворе чьи-то голоса.
– … Und sagen, Frau Erna. Lassen Sie k?nnen. Lassen Sie sich die russische zu graben die Gr?ber werden. Nicht knechten, sie Niemandsland. Weder das Gl?ck, sie werden nicht auf sich allein gestellt.[1 - Так и скажи госпоже Эрне. Пусть сделает, что сможет. Пусть русские сами себе могилы рыть будут. Да не властвовать им ни на чьей земле. Ни счастья им не будет и на своей.]
В сенях Прокопенко услышал, как там что-то прогремело. Хозяйка дома Ундина обернулась и прислушалась. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился ефрейтор.
– Это что же, вражья твоя сила?! Значит, лазутчиков отправляем, чтобы нас тут всех порубали?! – возмутился, было, Панкрат, но подавил в себе желание высказаться перед и так напуганной женщиной.
Он понимал: перед ним стоит беззащитный человек. Девочка, которую он узнал по детскому голосу, уже успела убежать. Она скрылась через скрипучую калитку и направилась к стоящим поодаль домам.
– Ты пойми, женщина, – солдат спустился со ступенек крыльца, кособоко надев затасканную пилотку.
– Коммунист – он же не враг, не злой, он ведь добра желает всему человечеству, порядка, – Прокопенко старался выделять каждое слово, – ведь мы, русские, тоже землю свою защищаем, русскую, а вы вот со всем вашим, простите…
Он не мог найти подходящего слова.
– Отребьем, фюрером бестолковым только краски сгущаете. Ты пойми, женщина, фрау, как вас там… что война это не есть гут, это есть плох, – с сарказмом передразнил он одного из пленных немецких солдат, который согласился однажды в том, что война – это плохо, когда с ним один из военных решил провести нравоучительную беседу.
Встретив безучастный взгляд немки, Панкрат понял, что продолжать разговор было бессмысленно. Он сплюнул, без ненависти, положил в рот закрученную в бумагу махорку и, отведя взгляд от иноземки, решил прогуляться по двору.
Несмотря на темнеющие небеса, погода налаживалась. Влажный воздух становился теплее, и Прокопенко не жалел, что оставил бушлат в доме.
С запада едва были слышны ставшие уже редкими раскаты разрывающихся снарядов. Солдат заметил, что женщина продолжала стоять неподалеку от дома и, по всей видимости, не собиралась входить внутрь. Отойдя от нее на два метра, он вновь обратил на нее внимание. Женщина казалась постаревшей и жалкой.
– Саму-то, мать, как звать? – спросил он более спокойным голосом.
Он не знал, как умилостивить напуганную женщину.
Она продолжала молча стоять, не шелохнувшись. Казалось, она онемела и готова была простоять во дворе в таком состоянии всю ночь.
– Ну, ладно, – солдат бросил окурок в сторону, – ты, мать, не обижайся, что я тогда… это я сгоряча… война. Сама понимаешь.
Панкрат, продолжая не замечать скованность женщины, говорил как можно спокойнее, чтобы она не боялась его.
– А если кто и погиб у тебя на войне-то, – продолжал он, – так это война, сама понимать должна…
Он не стал рассказывать, как в поле ему и его товарищам приходилось спасаться от разрывающихся рядом снарядов под Горячевкой, как на его глазах разлетались в стороны куски тел однополчан. Война принесла много потерь как фашистским оккупантам, так и советским солдатам. Еще раз он посмотрел на зарево, опускающееся на горизонте, и приоткрыл дверь.