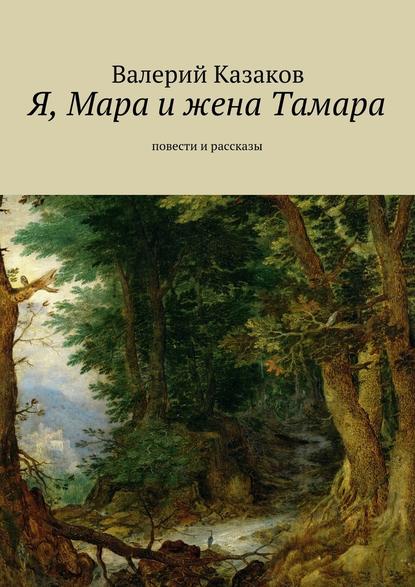По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я, Мара и жена Тамара. Повести и рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Клен ты мой опавший,
Клен заледенелый,
Что стоишь, согнувшись,
Под метелью белой…
Но в конце очередной песни Карамба вдруг увидел пустую банку из – под пива у себя перед носом, громко расплакался и стал с чувством жаловаться на свою беспросветную жизнь. Сказал, что жена ему изменяет. Потом громко выкрикнул: «Вы ничего не знаете, робяты! Ничего не понимаете!» – и выскочил из флигеля вон. Немного позднее я заметил его в густом малиннике сидящим на корточках со спущенными штанами. Он сидел, делал свое «дело» и горько плакал.
После его ухода во флигеле стало так тоскливо, что меня неожиданно стошнило. Иван в это время посмотрел на меня осуждающе и многозначительно изрек: «Ну вот, расставлены все точки над «и»…
Серьёзная женщина
А в понедельник вечером ко мне пришла Наталья Карповна, снисходительно погрозила желтоватым пальцем и попросила доколоть дрова – «раз уж взялись, дак». Объяснила, что на прошлое она не обижается, с кем не бывает, только напомнить пришла по пути за хлебом, что обещанное нужно исполнять. Немного помолчала и посетовала: «Хлеб два дня не привозили из района, из-за этого в магазине сегодня давка. Еле – еле до прилавка добралась. Вся ухомаздалась».
Вечером мне пришлось докалывать дрова одному. Я колол сучковатые тюльки, потел, вытирал лоб матерчатой кепкой и думал о том, что жизнь устроена отвратительно. Несправедливо. Глупо. Поэтому человек, который много и хорошо работает, всегда и всем должен, а единственное чувство, которое он при этом испытывает, – это чувство усталости. Он обречён уставать, пока жив, и вместе с уважением в старости к нему обычно приходят болезни, а вместе с предполагаемым отдыхом – смерть. Но даже если он умирает, люди, чаще всего, скорбят не об утраченной навсегда интересной, своеобразной личности, а, скорее, о потерянном работнике. Им дела нет до той несвободы, которую он ощущал всю жизнь.
После ужина ко мне пришла жена. Села на большую осиновую тюльку возле забора и спросила:
– Чего это ты, Андрей, так и будешь один дрова колоть? Друг-то твой где шатается?
– Не знаю, – ответил я, еле сдерживая раздражение.
– Вот те на! – удивилась жена.
– Ну, не пришёл пока. Что я, искать его буду?
– Значит, вино пить вместе, а работать – врозь. Так что ли? Интересно получается.
Я хотел было снова огрызнуться на неё, но не смог. Жена была в шелковом голубом халате с горошками. Ей идет этот цвет, потому что глаза у неё тоже голубые и наивные, как у ребенка. Только в последнее время я замечаю в них всё больше грусти. Я замечаю в них больше глубоких холодных теней, чем яркого тёплого света. Наверное, в этом есть и моя вина.
– Тогда не надо было за работу браться, если не уверен в человеке, – с укором продолжила Тамара. – Хотя какой он человек. Пропойца несчастный!
– Доколю без него. Не переживай.
– Давай! Докалывай! Ты всю жизнь так. За всех один отдуваешься… Думаешь, люди тебе за это спасибо скажут? Не надейся… Вот я на тебя гляжу – и мне тебя жаль. Больше ничего. В чем только душа держится, кожа да кости. Да ещё надо сегодня навоз у коровы вычистить, воды с колонки в баню натаскать.
– Ну и что?
– Ничего… Бросай всё и пошли домой. Бросай и пошли, а то заплачу сейчас у всех на виду… Кожа да кости… И что за мужик такой упрямый…
И мне, действительно, захотелось всё бросить к чёртовой бабушке: и дрова, и лес, и домашнее хозяйство. Не мое это дело. Не моё! Надо же когда-нибудь отдохнуть по-человечески. Это раньше считалось, что физический труд полезен, что он облагораживает, даже лечит. А сейчас об этом уже никто не вспоминает. Даже лозунг «Кто не работает – тот не ест!» стал звучать как издевательство, потому что производитель, работник как раз и получает за свой труд меньше всех. А тот, кто не работает на производстве, но распоряжается плодами чужого труда, тот всё имеет.
В общем, к вечеру я дрова доколол. Зашел к Карповне, отчитался о проделанной работе. Потом, преодолевая чувство брезгливости, чисто из уважения к старому человеку, выпил два стакана браги, приторно отдающей уксусом, и вышел на улицу, чувствуя тошнотворную тяжесть в желудке и запоздало осознавая, что в благодарность за всё меня, кажется, отравили…
Через какое-то время мне стало дурно. На ватных от слабости ногах я зашел за сельповские поленницы возле дороги, где вовсю благоухали высоченные лопухи, лег там на спину и долго – долго смотрел в небо с тоскливым равнодушием. Небо было цвета молочной сыворотки с тёмным крошевом птиц в самом зените. Глядя в него, я почувствовал себя никому не нужным, бесконечно одиноким человеком. И мне захотелось умереть, чтобы не видеть этого пустого бездонного, равнодушного неба, этой жирной зелени, не чувствовать тошнотворного запаха, наплывающего откуда-то справа, от приземистого дощаного туалета, склонившегося над оврагом. Жизнь вдруг показалась мне лишенной всякого смысла – отвратительным путешествием от одной неразрешимой проблемы к другой. От одного противоречия к другому. Что в ней хорошего? Что ценного? Ведь вокруг меня только пустота и хаос. Хаос и пустота…
И в это время рядом со мной вдруг появилась Мара. Она буквально выросла из-под земли, радостно лизнула меня в щеку, легла рядом, весело замахала рыжим хвостом. Я обнял её за теплую лохматую шею, уткнулся своим лицом в её тёплую и доверчивую морду. И на секунду успокоился. Что самое странное, от Мары на этот раз пахло самой настоящей лесной свежестью. Шерсть у неё приятно блестела, коричневые с желтинкой глаза излучали искреннюю преданность.
Через какое-то время мне сделалось легче. Я с трудом поднялся и направился в пивной бар на центральную улицу, чтобы выпить кружечку свежего пива, расслабиться в холодке, поговорить с кем-нибудь «по душам». Моя утомленная грустными мыслями душа желала общения.
Стихия стиха
В небольшом помещении бара на этот раз было сильно накурено. Незнакомые люди в углу, у окна, громко о чем-то спорили, а пиво, как назло, оказалось старое, какое-то слишком тёплое и подозрительно пенистое. Когда я зашел туда, то никто не обратил на меня внимания. Правда, уже через несколько минут ко мне подсел один из местных завсегдатаев, Леха Шарабора, и, размахивая пустой кружкой, предложил выпить за его лучшего друга Сашу Баранова. Вид у Лехи был такой убогий и такой беззащитный, что я уже готов был пожалеть его – купить ему пару кружек теплого пива. Пусть выпьет за мое здоровье. Но этот человек вдруг начал философствовать.
– Ты извини меня, Андрей, что выгляжу так несерьёзно. Понимаешь, друг мой Саша Баранов помер. Хороший был человек, добрый, правда, выпить любил… А чего? Это неплохо, когда хороший человек выпить любит.
После этого Леха сделал задумчивое лицо, немного помолчал и продолжил:
– Я про него стихи написал. Хочешь послушать? Вот слушай тогда…
И Леха стал читать свои стихи, слегка склонившись к моему уху:
Живем размеренно и жестко,
как будто принудили жить,
и сердце жалобно дрожит,
как в бурю чахлая березка.
Так над жнивьем дрожит рассвет
полоской красной киновари.
Жизнь дорога для каждой твари…
Жаль – смысла в этой жизни нет.
Леха вдруг перестал читать и замолчал, потом махнул рукой сверху вниз так резко и многозначительно, что объяснять ничего стало не нужно. Это был итог – черта, разрушающая все привычные догмы.
– А дальше? – спросил я после недолгой паузы.
– Дальше не буду читать. Дальше очень жалостливо. Боюсь, расплачусь… Я ведь раньше учителем истории был, десять лет в школе преподавал. Вот… А сейчас стал бродягой, босяком, Лехой Шараборой. Бутылки по обочинам дорог собираю. Стыдно мне, знаешь ли. Но ты меня не жалей, мне жалость не нужна. Я просто хочу, чтобы меня понимали, для этого и пью… Сам знаешь, что пьяные люди понимают друг друга с полуслова. Никакие условности им не мешают, не страшат никакие проблемы… Вот мать у меня была гулящая женщина. Это правда. Ну и что? А я её всё равно любил. И никогда не стыдился. Мы тогда в Отрясах жили, на большой дороге. У нас всегда проезжие шофера останавливались и прочие барыги, без определённого рода занятий. Мать с ними выпьет, песни запоет, а потом – сам понимаешь… Но мы с сестрой этому значения не придавали, не замечали дурного ничего. У нас была своя жизнь. У матери – своя. Мы выучились, образование получили. Как говорится, из грязи – да в князи… У сестры получилось, а у меня нет. Сестра-то моя сейчас в большом городе живет, детей воспитывает, гнездо вьет, а я вот – не сумел удержаться… Сестра мою мать доходила, докормила – всё как положено, как у людей… А Саша Баранов мой друг был. Всю войну человек прошел, там его и контузило…
Леха что-то ещё договорил загорелой до черноты рукой. Этот взмах его руки был уже не таким резким и катастрофическим, как первый. Он означал больше чем паузу, но меньше, чем обреченность.
– Помнишь, он ещё ходил так, немного боком, как бы крадучись. Со всеми здоровался, всех по имени отчеству называл. А пацанята, которые ничего про него не знали, его называли Сашей – дурачком… С головой у него, правда, было что-то этакое. Иногда вдруг так умно заговорит, что невозможно понять, а иногда весь вечер ерунду порет. Короче, сдвиг небольшой по фазе, как у всех очень умных людей… И никто его не понимал из—за этого. Даже я, если трезвый, не понимал. А пьяный всегда понимал, честное слово. Беседовал с ним за милую душу… Я ведь тоже старый зимогор. Мне что… Я зимой – по бабам, летом – по шабашкам! А Саша один жил в своей конуре, вот ему и наскучило… Пенсию ему платили пять тысяч рублей. Ну, подумай сам, что сейчас на эти деньги купишь?
– Пять тысяч – это не деньги, – со знаньем дела ответил я.
– Вот! А Кольку Луковку помнишь?
– Помню. Он в прошлом году коньки отбросил.
– Да. Тоже хороший человек был. За друга мог всё отдать… Да ты не смотри на меня так-то, не смотри. Жалеть меня не надо. Я ведь тоже человеком был, в высоких материях разбирался, Эдгара По читал, Марселя Пруста, Лескова. Только приходит время, когда осознать надо, что к чему? Куда человечество движется, куда катится Россия? И какая в этом движении суть?
Леха поднял вверх указательный палец.