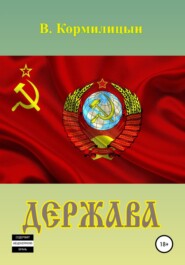По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разомкнутый круг
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я думал, что это грезы… Не может столь редкостная красота осветить сей скромный уголок, – оседлал своего второго конька эскадронный командир и вдохновенно поцеловал тонкую ухоженную руку. – Кто вы, прекрасная незнакомка, – человек или мираж?
– Я скромная танцовщица балета, – ответила дама, – и следую в Петербург, – откинулась на спинку стула.
Это произвело фурор среди офицеров – в таком вертепе – и балерина… Положительно, Бог помогает страждущим!
– Осчастливьте воинов танцем, мадемуазель, – протянул ей цветок Голицын. Взгляд его повеселел и светился удовольствием от вида красивой женщины.
«Где он растение достал?» – мысленно ахнул Рубанов.
Женщина кокетливо улыбнулась Голицыну и пригубила бокал с шампанским. Офицеры тем временем освобождали для нее место, отодвигая столы и убирая стулья.
– Отказ, мадемуазель, будет неуместен, – с завистью глядя на князя, произнес Аким.
– Я станцую, – благосклонно кивнула она и вдруг замерла, увидев графа де Сентонжа.
Он же, побледнев еще сильнее, с бокалом вина подошел и поклонился ей.
Наступила тишина, и раздались аккорды гитары. Сначала неуверенно, а потом все более входя во вкус, танцовщица кружилась и выгибала свое тело, языком танца воспевая любовь, молодость и жизнь.
Офицеры замерли, наслаждаясь женской грацией, изгибом рук и, – о боже! – иногда мелькавшей над туфелькой ножкой. Танец ее кружил голову и будоражил молодую кровь.
– Виват! – дружно закричали офицеры, когда уставшая балерина сделала легкий книксен и поднесла к губам цветок.
Граф де Сентонж, он же Анри Лефевр, молча поцеловал даме руку, а она, в свою очередь, коснулась губами его спутанных густых волос.
– Господа! – произнес он. – Это моя старинная приятельница.
– Виват! – опять кричали офицеры и пили за графа и его знакомую, за женщин, музыку и любовь…
Утром не выспавшийся, похмельный, неудовлетворенный и злой Рубанов повез пленного в штаб армии. Зато оттуда, веселый и довольный, привез орден Святого Владимира 4-й степени и прощение о «допущенной им бестактности по отношению к его превосходительству генералу Ромашову» – так звучал рескрипт Кутузова.
– И вытер саблю о вражеское знамя! – восхитился главнокомандующий: депеша об этом полетела в Санкт-Петербург.
Минул Ильин день, а с ним и жаркое лето. Утра стали холодными и росистыми.
– До Ильина мужик купается, а с Ильина дня с рекой прощается, – приговаривала нянька Лукерья. – Есть сено, так есть и хлеб, – пекла с Акулькой каравай из новой ржи. – Для благословения в церковь его понесем, – целовала тонкими сухими губами душистую корку.
Начинались дожди… Гулять Максим стал реже, больше времени проводил дома, занимаясь с матерью французским языком, а с чернавским дьячком – счетом и русской грамотой.
По выходным ездил с матерью в церковь, думая о том, что скоро по грязи коляска не сумеет пройти пяти верст до Чернавки, где и находилась ближайшая церковь. Была, правда, церковь на том берегу реки в Ромашовке, но матушка плавать в лодке боялась.
«Вырасту, – мечтал Максим, – стану богатым, обязательно в Рубановке церковь выстрою… о трех куполах, как в нашей семье – отец, мать и сын».
– Закат нонче красный, знать, ветер будет! – топая ногами, зашел в людскую Данила и громко сбросил дрова у печи.
– Сними обувь-то, вон сколько на полы натекло, – недовольно забубнила Лукерья, смачно прихлебывая чай из надтреснутого блюдца.
Девка Акулька уговорила ее, а значит – и барыню, взять работником в дом так понравившегося ей молодого рыбака.
– Садись с нами чай пить, – пригласила она разбитного работника.
– Со всем удовольствием! Чай пить – не дрова рубить… – устроился он за столом.
Кучер Агафон недовольно оглядел нового дворового: «Ишь язык как подвешен, ровно помело метет, – думал он, чуть подвигаясь на лавке и уступая место. – А этой дурочке наверняка сообразит ребятеночка видит бог, сообразит. Да не моя то забота, – одернул себя, – мне, что ли, нянчиться?»
Его мысли почувствовала и старая Лукерья.
– Ты, Данилка, человек новый туточки, мотри не балуй… знаю вас, кобелей…
– А откуда же, бабушка, вы их так хорошо знаете? – улыбнулся бывший рыбак, громко прихлебывая чай.
Старушка обидчиво поджала губы.
– Получишь розог на конюшне, тогда узнаешь, голуба. А ты чего расселась? – накинулась она на девку. – Самовар барыне неси.
Тряхнув волосами и стрельнув озорными глазками на Данилу, Акулька подхватила самовар и скрылась в комнатах.
– Ишь, егоза! – ласково произнесла нянька и строго поглядела на Данилу: «Чегой-то зря я его в дом взяла…» – вздохнула она.
Тринадцатого сентября[4 - Старый стиль.] под Воздвиженье Креста Господня барыня решила ехать ко всенощной в церковь.
– Что-то душа не на месте! – жаловалась она няньке. – Получила письмо от Акима Максимовича – на войну собирается…
– Ох, Господи! – перекрестилась мамка. – Так и я с тобой поеду, – с нежностью смотрела она на барыню.
На Воздвиженье в Чернавке шумела ярмарка. Ольга Николаевна надумала развлечь сына. После церкви она немного успокоилась.
Максим пил грушевый квас и наблюдал, как цыган мужику лошадь торгует и безбожно его обманывает.
Сидящий на облучке брички Агафон тоже недовольно хмурился – жалел бестолкового мужика. Наконец, не выдержал и огромный, такой же обросший, как цыган, подошел к ним.
Максиму со своего места хорошо было видно, как он спорит с цыганом, указывая мужику на лошадь. Цыган что-то лопотал, яростно глядя на Агафона и жестикулируя руками: то поднося их к груди, то показывая на небо. Мужик сначала недоуменно крутил головой, затем какое-то понятие забрезжило в его дремучем мозгу, и через минуту он с остервенением лупил цыгана под хохот рубановского кучера.
Ярмарка в этот раз была скучная и быстро надоела.
По пути домой Максим выпросил разрешение у матушки посетить Кешку, и Агафон довез его почти до их дома.
– Недолго, сынок, – крикнула, уезжая, мать, – к темноте домой вернись, да пусть проводят тебя.
Зайти к деду Изоту она почему-то не захотела.
Кешки дома не оказалось: уехал с отцом и дядькой на рыбалку.
– Подожди маленько, – предложил Изот, – скоро вернуться должны.
Сам он вместе с невестками укладывал в сарае сено.
– Бери, барчук, вилы, да сено мне подавай, а я девкам наверх метать стану, – подключил Максима к работе.