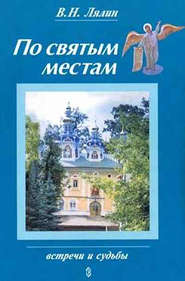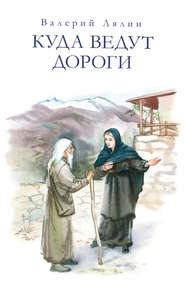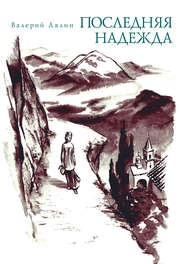По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Птицы небесные (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Птицы небесные (сборник)
Валерий Николаевич Лялин
Когда жить предельно тяжело, остается надежда на Бога, и Он не оставляет надеющихся на Него.
Валерий Лялин
Птицы небесные
© В.Н. Лялин, текст, 2005
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, составление, оформление, 2018
* * *
Серафима
В начале двадцатого столетия в сером, невзрачном, недавно учрежденном уездном городе Иваново-Вознесенске видное место занимали большие ткацкие корпуса со множеством ярко освещенных окон и закопченными, красного кирпича, стенами. Из упиравшейся в небо фабричной трубы безостановочно валили клубы черного угольного дыма, в зависимости от погоды уходящие ввысь или стелившиеся по земле. Тяжелые паровые машины, пыхтя и сотрясаясь, вращали тянущиеся под потолками цехов железные оси, от которых шло множество шкивов-трансмиссий к сотням ткацких станков. Для того, чтобы нить в станках не обрывалась, в цехах была устроена удушливая тропическая жара. Работающие станки создавали в цеху оглушительный шум, и между ними, обливаясь потом, сновали полураздетые ткачихи. В свое время грубо и тяжело ревел фабричный гудок, оповещая уход одной смены и приход другой, это была известная ткацкая фабрика промышленника, купца первой гильдии Бурылина, изготовляющая знаменитые дешевые ивановские ситцы, идущие на потребу не только в Россию, но и в Среднюю Азию, Индию и Китай. Ткачихи, работающие на фабрике, не были трудовыми муравьями, как их после представляла советская печать, но многих, особенно давно работающих, Бурылин знал в лицо и вникал в их нужды, скорби и заботы. Одной из лучших ткачих у него была Серафима Новикова – рослая рябая женщина с добрым лицом и большими руками, которую молодые работницы звали «тетка Сераня». По требованию хозяина, мастер у себя в конторке, посматривая поверх тонких железных очков в цех, старательно составил список лучших работниц. Первой в списке значилась Серафима Новикова. Хозяин пригласил их к себе в особняк, куда они робко вошли, пораженные невиданной роскошью. В зимнем саду, среди пальм, фонтанов и цветов, был поставлен стол с богатым угощением. Бурылин, рассадив их по местам, поднял бокал с шампанским и, произнеся поздравительный тост, выпил с ними за их старательную работу. После обильного угощения развеселившиеся ткачихи слушали граммофон, где пела русские романсы Плевицкая, где комик-актер высоким голосом скороговоркой рассказывал анекдоты. После чего хозяин каждой ткачихе поднес в конверте денежную премию и памятный подарок. Тетке Серафиме достался плоский палисандрового дерева ящик, изнутри выложенный алым бархатом, на котором в гнездах лежали серебряные ложки и вилки. Довольные ткачихи разошлись по домам к своим мужьям и детям, а Серафима тоже пошла к себе домой, где ее ждали двое приемышей-сирот, родители которых умерли от холеры. Из-за того, что Серафима была рябая, замуж ее никто не взял. Так и жила себе она в небольшом деревянном домике в Хуторово, воспитывая двух мальчиков. Работа на фабрике была тяжелой. Еще до рассвета по гудку вставала, умывшись, молилась и, выпив чаю, шла на фабрику. Работа и впрямь была каторжная, по десять-двенадцать часов, никаких отпусков тогда не было и в помине.
Серафима, глядя на свои руки со вздувшимися венами, говорила, что ситцем, который она наткала за полвека, можно было бы одеть полмира. Больная, не больная – все равно надо было идти в цех, и только с Божьей помощью она совершила эту полувековую каторжную работу. Часто утром вставала немощная, неотдохнувшая, но, помолившись и испросивши у Бога силы, шла на работу. При советской власти уже было полегче. И рабочий день меньше, и тебе отпуск, и больничный лист, и даже в доме отдыха раз побывала. От новой власти ей был пожалован орден «Знак почета». А ситец всегда был нужен людям, при любой власти – и в революцию, и в Отечественную.
Я приехал в Иваново навестить бабушку Серафиму в 1946 году, сразу после войны. Она уже по старости на фабрике не работала, хозяйствовала дома, получая скромную пенсию. Ее дом стоял в саду на краю города, и здесь было тихо и приятно. Только иногда, нарушая тишину, был слышен паровозный гудок и стук колес по рельсам проходящего вдали поезда. Да еще галки, живущие на колокольне закрытой заброшенной церкви, время от времени поднимали гвалт и летели скопом к бабушке в сад клевать ягоды, но всегда были с позором изгоняемы хворостиной зорко следившей за порядком хозяйки.
По приезде в Иваново я решил ознакомиться с его достопримечательностями, но таковых в этом еще недавно промышленном селе не оказалось. Мне предлагали осмотреть здание, где впервые в мире возникли «советы», или полянку на реке Талке, где впервые на маевку собирались рабочие, а бабушка Серафима посоветовала сходить в Бурылинский музей. Бурылин был большой оригинал, учреждая среди фабричных корпусов, жилых кирпичных казарм и серых сгрудившихся избушек музей, куда со всего света собирал разные диковины. Музей помещался в особняке в стиле «модерн». И первое, что я увидел, были два рогатых и клыкастых африканских дьявола, раскрашенные черной и красной краской, плотоядно взирающие на посетителей. За ними в ряд стояли чучела разных зверей, среди которых я помню льва, гориллу и удава. Были здесь страшные японские и тайские ритуальные маски, орудие дикарей, полки с заспиртованными в банках уродами. Но жемчужиной музея была настоящая египетская мумия с оскаленными зубами и усохшим черным носом. Советский период был представлен почетными грамотами, медалями почивших передовиков труда, снопами ржи, льна и искусно сработанным из гороха портретом Сталина. Музей в революцию не разграбили, пострадала только коллекция уродов, из банок которых революционные матросы выпили спирт. Кроме музея, Бурылин в Иваново построил несколько церквей. Церкви в городе давно уже были не в почете, но в революцию постарались особенно, и священника сейчас днем с огнем не найдешь. Правда, в начале двадцатых годов на религиозное безвластие в Иваново прибыл самозванный обновленческий митрополит. Без бороды, со скобленым рылом, он, не скрываясь, курил папиросы «Ира», имел молоденьких наложниц и говорил такие срамные проповеди, что бабульки только ахали и, закрыв лицо платком, выбегали из храма. Потом и его унесло революционным ветром неизвестно куда.
Иногда я ходил гулять на окраину города к большому собору, стоявшему посреди капустного поля. Кочаны там росли отличные, большие и тугие. А вот собор был в абсолютном забросе. Дверей там уже не было, и посередине мальчишки развели костер, пекли картошку и калили железную трубу с водой, которая стреляла в потолок деревянным кляпом. На стенах и под куполом хорошо сохранилась роспись, и спокойные лики святых угодников безмолвно взирали на эту мерзость запустения. По окружности купола шла золотыми буквами четкая надпись: «Чистые сердцем Бога узрят». Народ здесь как-то легко поддался безбожной пропаганде и совершенно отпал от Бога, и Бог у них никакой стороной не присутствовал в жизни. Но бабушка Серафима от Бога не отрекалась. «Дураки вы, дураки, – говорила она, – главное-то в жизни – Бог, а вы потеряли Бога, да Он не сразу откроется вам».
Утром и вечером она вставала на молитву перед иконами в восточном углу, где тихо мерцала зеленая лампадка, и просила у Бога не здоровья, не достатка, не еще каких-либо благ, а просила она, чтобы скорее кончилось это безбожное время, вновь открылись храмы и вновь запели Пасху. Раз в году, на Светлое Христово Воскресение, ездила она в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы исповедаться и причаститься. Возвращалась тихая, задумчивая, и в ее голубых глазах светилась радость.
Лето уже приближалось к концу, но дни еще стояли теплые, солнечные. Я брал у бабушки Евангелие – книгу в то время редкую, запрещенную, и уходил в сад. Там, лежа на траве, среди сухого малинника, я долго смотрел на плывущие в небе облака и думал о том, что вся жизнь у меня еще впереди, что в ней еще будут радости, а может быть, скорби. Но скорбей пока еще не было, и я, повернувшись набок и подперев голову ладонью, читал Евангелие: «Авраам родил Исаака; Иаков родил Иуду и братьев его». И как-то сладостно было на сердце от этих простых слов: «Авраам родил Исаака», – и наше зыбкое временное и непрочное бытие виделось неколебимым и вечным, и на призыв Христа – «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», – хотелось ответить радостными слезами и, взяв посох и котомку, ни о чем не думая, идти к дальним неведомым горизонтам.
Я подолгу читал Евангелие, осторожно переворачивая пожелтевшие страницы, пока на крыльцо не выходила бабушка Серафима и, приставив к глазам козырьком ладонь, высматривала меня в саду и кричала: «Валюша, иди обедать!»
В те далекие послевоенные голодные годы обед был немудреный. На первое бабушка подавала постные щи, обильно посыпанные укропом. На второе – оладьи из вчерашней пшеничной каши, политые горьковатым льняным маслом, на третье – чай с сахарином. Чай у бабы Серафимы был возведен в культ. Пила она его только из самовара, который кипятила уже с раннего утра. «Пока я не выпью чая, я как неживая, – говорила она. – Надо, надо брюхо чайком прополоскать». После чая она и впрямь оживлялась и принималась за дела. Дел у нее было много: пойти привязать козу на травку, покормить обедом своих воспитанников, когда они придут с работы. Все она делала спокойно, не торопясь, все с молитвой. Поэтому и приготовления ее всегда были вкусные. Вспоминала она и Бурылина – из стеклянной горки доставала плоский заветный ящик и показывала серебряные ложки и вилки, которые не продала и не променяла в самый лютый голод.
– Я за свою жизнь никого не обижала, всех жалела и многим помогала, как могла. Можете по всему Иванову пройти и спрашивать: обижала ли кого бабка Серафима? Я думаю, что такого человека не найдете, – как-то вечером, сидя за чаем, без хвастовства говорила она. – Наш род пришел в Иваново-Вознесенск с реки Суры. Она впадает в Волгу. Там мы жили, пока не приехал к нам вербовщик, приказчик бурылинский, набирать ткачих на фабрику. Приказчик молодой, пригожий, веселый, говорил сладко, приманчиво, плясал, играл на гармошке. Ну, девки с нашей деревни, все мои сродницы, и двинулись скопом в Иваново. Там очень-то хорошо не было, но и плохо не было. Девок вскоре разобрали замуж, а меня, рябую, никто не взял. Так и осталась вековухой. Кому рябая нужна? Вот на фабрике меня ценили за работу. При советской власти я больше наставницей была для молодых ткачих.
Хотя бабушка Серафима потомства не оставила, но воспитала двух сирот и на работе не посрамилась. Умерла она легко, потому как больших грехов за ней не водилось. Вечером помолилась, легла спать, так и уснула вечным сном. Пришли ее подруги-старушки, обмыли, опрятали покойную, читали по очереди Псалтирь. Воспитанники, тем временем, поехали в Сергиев Посад отыскивать батюшку. Нашли заштатного, старого и очень нуждающегося батюшку. Привезли его в Иваново. Отпевать пришлось на дому, и батюшка отпел Серафиму по полному чину. Все было сделано честь по чести. Погребение совершили на кладбище возле Куваевского леса. На могиле поставили православный крест с надписью: «Серафима Ивановна Новикова». Подарок от Бурылина она завещала продать, а вырученные деньги отвезти в Троице-Сергиеву Лавру на помин души, что и было сделано.
1942 год на Волге
Рассказ старого солдата
Вхождение в войну обычно начинается с вокзала, где происходит погрузка воинской части в эшелон, составленный из платформ и старых щелястых обшарпанных товарных вагонов, в которых теснились солдаты. На платформах везли полевые кухни, танки, грузовики, пушки и зенитные установки с прислугой на случай налета немецких «юнкерсов».
На дворе еще стояло бабье лето, и поэтому двери вагонов были открыты, но перегорожены деревянной балкой, чтобы какой растяпа не вывалился на ходу. Немецкая авиация уже активно действовала в этом регионе, и поэтому наш эшелон двинулся ночью. Видимо, машинист не отличался деликатностью, вначале осадил назад так, что лязгнули стальные буфера, а затем резко рванул вперед, так что мы горохом посыпались с вагонных нар на пол с криком и матерком в его адрес. Мы были полностью экипированы и оснащены всем, что полагается по штату. Во-первых, громоздкой мосинской винтовкой образца 1891 года с трехгранным штыком вороненой стали, про который наш старшина Степан Охрименко, протирая его суконкой, любил говаривать, что «пуля дура, а штык молодец».
На ремне в патронных сумках – полный комплект обойм с новенькими желтыми патронами и торчащими из них острыми пулями, которые я бы не назвал дурами. При ходьбе по заду ритмично хлопала саперная лопатка в чехле, годная не только для копания, но и для схватки в траншеях в ближнем бою. Стальная каска спасала только от комьев земли и камней, но осколки снарядов довольно легко рвали и дырявили ее. На боку в зеленой торбе висел еще противогаз с носатой резиновой харей, тут же был прицеплен круглый солдатский котелок – наш лучший друг и питатель, неразлучный до могилы. Пилотка с красной звездочкой украшала, но не грела наши головы. Серая шинельная скатка – дорогая подруга на всю солдатскую жизнь. На ногах грубые тяжелые ботинки на резиновом ходу с обмотками до колен. В брюках-галифе – узкий специальный карманчик с роковым черным пластмассовым футлярчиком, куда вкладывалась бумажка с нашей фамилией и адресом родителей и который была обязана сохранить похоронная команда.
А паровоз наш несется по степи во тьме ночной, выбрасывая из трубы клубы черного дыма с огненными искрами, и везет он нас не на побывку к матери в деревню, а в самое жерло, самое пекло сражения за Сталинград. Хочется высунуть голову в дверь, чтобы хватить глоток свежего воздуха, но высовываться нельзя, сразу схватишь кусок угля в глаз и намучаешься с ним потом. Потом стук колес, заунывно играет гармошка. Это наш ефрейтор Вася Селезнев, свесив с нар ноги, играет и поет сиплым прокуренным голосом: «Черный ворон, что ты вьешься надо моею головой, ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой».
Старшина Охрименко ругается и приказывает Васе рвануть что повеселее. Вася делает задорное вступление и поет, как с «одесского кичмана бежали три уркана…»
Утром старшина, вскрыв несколько банок с американской колбасой и разрезав ее финкой на вертикальные дольки, производил солдатский дележ. Наводчик противотанкового ружья Кузьма Брюханов был поставлен лицом к вагонной стенке выкрикивать фамилии. Старшина, подцепив финкой кусок колбасы, спрашивал Кузьму: «Кому?!» Кузьма кричал: «Иванову». Иванов подходил и снимал с ножа свою долю. Старшина опять кричал: «Кому?!» Кузьма: «Юсупову!» Старшина с куском колбасы на ноже обернулся к Юсупову: «Юсупыч, колбаса из чушки. Будешь брать?»
Юсупов – коренастый узбек, заряжающий ПТР, – осклабившись, подошел и, сняв кусок, положил его на хлеб. «Чушка, барашка, все равно кушать мала-мала надо. Барашек ёк – кушай чушка, чушка ёк – кушай махан».
Впоследствии, когда немец вплотную прижал нас к берегу Волги, а снабжение из-за ледохода прекратилось, то все мы ели махан и радовались еще, что нам подвернулась старая кляча. Поев и попив из канистры воды, курили сибирскую махорку «Бийский охотник». Щепотью доставали из кисетов грубую крошковатую махорку, сыпали ее на клочок армейской газеты и завертывали, послюнив края. Старшина Охрименко свертывал себе солидную козью ножку, и вагон наполнялся синим махорочным дымом так, что некурящие заходились в кашле и старались держаться ближе к открытой двери. Крепка и забориста была фронтовая махорка. Про то, что нас ожидает, старались не говорить, а больше вспоминали то, что оставили дома. Война уже показала свой страшный оскал. В степи за станицей Лиски три немецких «юнкерса-88», покружась каруселью, пошли в пике на эшелон и клали бомбы по обе стороны полотна. С платформ огрызались скорострельные зенитные пушки и строчили крупнокалиберные пулеметы. От одного «юнкерса» пошел легкий дымок, и все они, развернувшись, ушли на запад. В нашем вагоне осколком бомбы убило молодого солдатика Родионова. Небольшая такая ранка была в правом виске, и крови-то вытекло совсем мало, но тем не менее он был мертв. Хоронили его на полустанке в степи. Место нашли на горке, сухое, песчаное, могилку выкопали неглубокую, просторную и положили его во всем одеянии: гимнастерка с застегнутым ремнем, пилотка со звездочкой, сапоги новые на нем. Все честь по чести. Лежит родимый, молодой, красивый парень, и все при нем. Жить ему да жить, а тут засыпали землей и отправили в веки вечные. Дали салют из винтовок и разошлись по вагонам.
Наконец ночью мы прибыли к Волге, переправились на левый берег и стали в резерв недалеко от Средней Ахтубы. Страшно было смотреть, что происходило на правом берегу. Сталинград, протянувшийся по правому берегу Волги на пятьдесят километров, был весь в огне. Черным дымом заволокло небо, и не было видно солнца. Немецкая авиация делала на город по две, иногда по три тысячи вылетов в день. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля взмывалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб для устрашения немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные колеса, бороны, листы котельного железа, и все это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город.
Сами «юнкерсы», входя в пике, включали мощные сирены, и тут только от одних адских звуков душа готова была выскочить из тела. Перед нами была прижатая врагом к берегу Волги 62-я армия генерала Василия Ивановича Чуйкова. В виде дуги флангами она опиралась на берег, фронтом же занимала несколько улиц. Немцы через радиоустановку призывали сдаваться: «Рус, завтра Вольга буль-буль!» Против наших двух армий, защищавших Сталинград, – 62-й и 64-й, уже потрепанных и обескровленных еще на подступах к городу, стояли мощные, постоянно пополняемые солдатами и техникой, 6-я армия генерала Паулюса, 4-я танковая армия генерала Гота, группировка из нескольких дивизий «Шехель», 4 румынские пехотные дивизии и 4-й немецкий воздушный флот, имеющий более тысячи боевых самолетов.
Переправа на правый берег Волги обычно осуществлялась по ночам в целях безопасности, но все равно немцы по ночам беспрерывно подвешивали над переправой осветительные ракеты и вели обстрел из орудий и крупнокалиберных пулеметов по бронекатерам и баржам. Потери при переправе были всегда, и Волга, окрашиваясь кровью, несла вниз по течению тела русских солдат и обломки барж.
Утром, прибыв на правый берег, я увидел дымящийся и лежащий в руинах город с почти непроходимыми улицами, заваленными обрушившимися стенами домов, столбами и деревьями. Среди руин стояли разбитые сгоревшие танки, бронетранспортеры, грузовики и лежала целая армия трупов. Они были везде: в руинах домов, на улицах, в подвалах, в оврагах и траншеях. Особенно меня поразила пересекающая город река Царица, протекавшая в узкой глубокой балке, русло которой было сплошь завалено трупами, так что не было видно и воды. Они лежали в разных нелепых позах, раздувшиеся и страшные в своем неправдоподобии. Немцы не прекращали свои атаки ни на один день. В том числе, пытаясь по мелкому руслу реки Царицы прорваться к Волге, где их и уничтожали шквальным пулеметным огнем.
Из вновь прибывших бойцов формировали штурмовые группы для ночных боев. Группы были небольшие, не более шести человек. Вместо винтовок нам выдали автоматы Шпагина, гранаты и ножи, а мне еще дали ранцевый огнемет. Командовал нами опытный в ночных боях сержант. Нашей задачей было ночной вылазкой проникнуть в дома, где на верхних этажах засели немецкие снайперы и солдаты с крупнокалиберными пулеметами, обстреливавшими водную переправу, и уничтожить их, а также минировать эти дома и подходы к ним. Тихо, как тени, пробирались мы в развалинах, прислушиваясь, где могли находиться немцы. Обнаружив их, мы действовали молниеносно: подкравшись, бросали в помещение гранату и после взрыва давали еще очереди из автоматов, и, если этого им было мало, я бил туда огненным шквалом из огнемета. После этого мы также быстро исчезали, чтобы избежать скорого возмездия. Итак, всю ночь крались мы по развалинам, выискивая очередные жертвы, и опять быстрый бросок и отступление. Бывало, что не все возвращались из ночных рейдов: некоторые были убиты, некоторые попали в плен. Раненых товарищей мы тащили на себе, сдавали их в медсанбат у переправы. Как-то быстро наступили зимние холода, и мы дрогли от холода в своих землянках. Печурку топить было нельзя, так как немцы сразу засекали дым и начинали обстрел из минометов. Они уже были близко от наших позиций, буквально в ста метрах, а кое-где на бросок гранаты. На Волге образовалась шуга, а потом пошел лед, и снабжение на какое-то время прекратилось, потому что лодки и катера затирало льдинами. На помощь пришла авиация, сбрасывая на парашютах боеприпасы и продовольствие, но немцы были так близко от нас, что часть грузов попала к ним.
Хитрый узбек Юсупов придумал какой-то особенный дымоход, шедший по земле и прикрытый ветками, чтобы дым рассеивался. Тогда мы обогрелись и варили мерзлую конину.
Юсупыч говорил: «Чушка ёк, махан бар. Война кончал, все ко мне в Коканд едем. Месяц сидеть будем, плов кушать будем, кок-чай пить будем».
– Вряд ли, Юсупыч, придется тебе кок-чай пить. Отсюда живым не уйдешь, – сказал старшина.
– Не надо меня убивать, дома маленький баранчук есть. Кто им кушать будет давать, если Юсуп помирай?
– Это что, барашков ты что ли жалеешь? – спросил старшина.
– Нет, баранчук эта мой маленький детишка есть.
Помню, в декабре на немецкое Рождество было затишье, да и немцы уже потеряли свой дух, потому что не смогли выполнить приказ Гитлера: «Во что бы то ни стало овладеть Сталинградом и сбросить русских в Волгу». И мало того, сами уже попали в окружение, но сдаваться не хотели и бешено оборонялись, наносили урон нашим войскам и сами несли большие потери.
На этот раз нам дано задание ликвидировать пулеметные гнезда на верхних этажах дома специалистов. Около двенадцати часов ночи мы прокрались к этому дому и, затаившись, выясняли обстановку. Немцы спустились в нижний этаж дома и справляли свое Рождество. Их было четверо, по голосам мы определили, что они находятся в порядочном подпитии. Было слышно, как один играл на губной гармошке, а другие пели рождественскую песню «Хайлиге Нахт». Пели пьяными голосами и с какой-то большой тоской, так как знали, что дела их плохи и близок полный разгром.
Это были пулеметчики, которые постоянно обстреливали нашу переправу. Один из них, продолжая напевать, вышел из дома и стал мочиться на стенку. Я прыгнул на него сзади и ударил финкой в шею. Из раны хлынул фонтан крови, и он, захрипев, повалился на снег. Я обшарил его карманы и вынул документы. Тут из-за облака вышла луна, и я увидел у него на брюках привинченный советский орден Красной Звезды. Я быстро вырезал его финкой и положил в карман. Потом подозвал товарищей, и мы приготовились к броску. Немцы из комнаты уже звали пропавшего Вилли. Мы ворвались в помещение и перекололи их ножами. Поднявшись на верхний этаж, обнаружили два крупнокалиберных пулемета и привели их в негодность.
Днем мы обычно отсыпались в блиндаже, хотя немцы предпринимали беспрерывные атаки, а с левого берега в расположение немцев с воем летели реактивные снаряды «катюши» и снаряды тяжелой артиллерии. Все тряслось, грохотало, с накатов на нас сыпалась земля, но мы привыкли и спали.
Проснувшись, мы садились закусывать. Были у нас трофейные деликатесы, принесенные из ночных рейдов. Если бы не эти трофеи, то мы почти всегда ходили бы голодные, потому что со снабжением было плохо. Главное, чтобы были боеприпасы, а уж снабжение пищевым довольствием было на втором месте. Из трофеев, помню, ели мы итальянские сардины, упакованный в пленку непортящийся немецкий хлеб. Спаржу в банках мы попробовали и выбросили, как не подходящий для русского брюха продукт. Ели шоколад в круглых оранжевых коробках. Сибирская махорка к нам давно уже не поступала, и нам приходилось курить слабые сигареты с верблюдом на пачке под названием «Варум ист яно рунд». Попадался нам отличный французский коньяк, а немецкий «шнапс» был сущая дрянь, наверное, из опилок.
Запасались мы и немецкими боевыми гранатами. Они имели длинную деревянную пустотную ручку, и гранату можно было прицельно и далеко бросить, а когда она падала, то ручка не позволяла ей катиться в сторону от цели. Однажды ефрейтор Вася Селезнев спрашивал старшину Охрименко:
– А правда, Степан, что с немцами Сам Бог?
На что старшина Охрименко, постучав согнутым пальцем по Васиному лбу, обозвал его глупым теля. И дал такое объяснение:
– С ними не Бог, а сатана, если посмотреть, что они творят с нашей страной и нашим народом. Вот был прекрасный город Сталинград, а во что они его превратили?! Пепел, камни и трупы. А то, что с ними Gott, то это правда, но какой Gott? Разве ты не знаешь, кто у них командует танковой армией? Да сам генерал Гот. Вот тебе и «Gott mit uns»!
– И то правда, старшина.
Валерий Николаевич Лялин
Когда жить предельно тяжело, остается надежда на Бога, и Он не оставляет надеющихся на Него.
Валерий Лялин
Птицы небесные
© В.Н. Лялин, текст, 2005
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, составление, оформление, 2018
* * *
Серафима
В начале двадцатого столетия в сером, невзрачном, недавно учрежденном уездном городе Иваново-Вознесенске видное место занимали большие ткацкие корпуса со множеством ярко освещенных окон и закопченными, красного кирпича, стенами. Из упиравшейся в небо фабричной трубы безостановочно валили клубы черного угольного дыма, в зависимости от погоды уходящие ввысь или стелившиеся по земле. Тяжелые паровые машины, пыхтя и сотрясаясь, вращали тянущиеся под потолками цехов железные оси, от которых шло множество шкивов-трансмиссий к сотням ткацких станков. Для того, чтобы нить в станках не обрывалась, в цехах была устроена удушливая тропическая жара. Работающие станки создавали в цеху оглушительный шум, и между ними, обливаясь потом, сновали полураздетые ткачихи. В свое время грубо и тяжело ревел фабричный гудок, оповещая уход одной смены и приход другой, это была известная ткацкая фабрика промышленника, купца первой гильдии Бурылина, изготовляющая знаменитые дешевые ивановские ситцы, идущие на потребу не только в Россию, но и в Среднюю Азию, Индию и Китай. Ткачихи, работающие на фабрике, не были трудовыми муравьями, как их после представляла советская печать, но многих, особенно давно работающих, Бурылин знал в лицо и вникал в их нужды, скорби и заботы. Одной из лучших ткачих у него была Серафима Новикова – рослая рябая женщина с добрым лицом и большими руками, которую молодые работницы звали «тетка Сераня». По требованию хозяина, мастер у себя в конторке, посматривая поверх тонких железных очков в цех, старательно составил список лучших работниц. Первой в списке значилась Серафима Новикова. Хозяин пригласил их к себе в особняк, куда они робко вошли, пораженные невиданной роскошью. В зимнем саду, среди пальм, фонтанов и цветов, был поставлен стол с богатым угощением. Бурылин, рассадив их по местам, поднял бокал с шампанским и, произнеся поздравительный тост, выпил с ними за их старательную работу. После обильного угощения развеселившиеся ткачихи слушали граммофон, где пела русские романсы Плевицкая, где комик-актер высоким голосом скороговоркой рассказывал анекдоты. После чего хозяин каждой ткачихе поднес в конверте денежную премию и памятный подарок. Тетке Серафиме достался плоский палисандрового дерева ящик, изнутри выложенный алым бархатом, на котором в гнездах лежали серебряные ложки и вилки. Довольные ткачихи разошлись по домам к своим мужьям и детям, а Серафима тоже пошла к себе домой, где ее ждали двое приемышей-сирот, родители которых умерли от холеры. Из-за того, что Серафима была рябая, замуж ее никто не взял. Так и жила себе она в небольшом деревянном домике в Хуторово, воспитывая двух мальчиков. Работа на фабрике была тяжелой. Еще до рассвета по гудку вставала, умывшись, молилась и, выпив чаю, шла на фабрику. Работа и впрямь была каторжная, по десять-двенадцать часов, никаких отпусков тогда не было и в помине.
Серафима, глядя на свои руки со вздувшимися венами, говорила, что ситцем, который она наткала за полвека, можно было бы одеть полмира. Больная, не больная – все равно надо было идти в цех, и только с Божьей помощью она совершила эту полувековую каторжную работу. Часто утром вставала немощная, неотдохнувшая, но, помолившись и испросивши у Бога силы, шла на работу. При советской власти уже было полегче. И рабочий день меньше, и тебе отпуск, и больничный лист, и даже в доме отдыха раз побывала. От новой власти ей был пожалован орден «Знак почета». А ситец всегда был нужен людям, при любой власти – и в революцию, и в Отечественную.
Я приехал в Иваново навестить бабушку Серафиму в 1946 году, сразу после войны. Она уже по старости на фабрике не работала, хозяйствовала дома, получая скромную пенсию. Ее дом стоял в саду на краю города, и здесь было тихо и приятно. Только иногда, нарушая тишину, был слышен паровозный гудок и стук колес по рельсам проходящего вдали поезда. Да еще галки, живущие на колокольне закрытой заброшенной церкви, время от времени поднимали гвалт и летели скопом к бабушке в сад клевать ягоды, но всегда были с позором изгоняемы хворостиной зорко следившей за порядком хозяйки.
По приезде в Иваново я решил ознакомиться с его достопримечательностями, но таковых в этом еще недавно промышленном селе не оказалось. Мне предлагали осмотреть здание, где впервые в мире возникли «советы», или полянку на реке Талке, где впервые на маевку собирались рабочие, а бабушка Серафима посоветовала сходить в Бурылинский музей. Бурылин был большой оригинал, учреждая среди фабричных корпусов, жилых кирпичных казарм и серых сгрудившихся избушек музей, куда со всего света собирал разные диковины. Музей помещался в особняке в стиле «модерн». И первое, что я увидел, были два рогатых и клыкастых африканских дьявола, раскрашенные черной и красной краской, плотоядно взирающие на посетителей. За ними в ряд стояли чучела разных зверей, среди которых я помню льва, гориллу и удава. Были здесь страшные японские и тайские ритуальные маски, орудие дикарей, полки с заспиртованными в банках уродами. Но жемчужиной музея была настоящая египетская мумия с оскаленными зубами и усохшим черным носом. Советский период был представлен почетными грамотами, медалями почивших передовиков труда, снопами ржи, льна и искусно сработанным из гороха портретом Сталина. Музей в революцию не разграбили, пострадала только коллекция уродов, из банок которых революционные матросы выпили спирт. Кроме музея, Бурылин в Иваново построил несколько церквей. Церкви в городе давно уже были не в почете, но в революцию постарались особенно, и священника сейчас днем с огнем не найдешь. Правда, в начале двадцатых годов на религиозное безвластие в Иваново прибыл самозванный обновленческий митрополит. Без бороды, со скобленым рылом, он, не скрываясь, курил папиросы «Ира», имел молоденьких наложниц и говорил такие срамные проповеди, что бабульки только ахали и, закрыв лицо платком, выбегали из храма. Потом и его унесло революционным ветром неизвестно куда.
Иногда я ходил гулять на окраину города к большому собору, стоявшему посреди капустного поля. Кочаны там росли отличные, большие и тугие. А вот собор был в абсолютном забросе. Дверей там уже не было, и посередине мальчишки развели костер, пекли картошку и калили железную трубу с водой, которая стреляла в потолок деревянным кляпом. На стенах и под куполом хорошо сохранилась роспись, и спокойные лики святых угодников безмолвно взирали на эту мерзость запустения. По окружности купола шла золотыми буквами четкая надпись: «Чистые сердцем Бога узрят». Народ здесь как-то легко поддался безбожной пропаганде и совершенно отпал от Бога, и Бог у них никакой стороной не присутствовал в жизни. Но бабушка Серафима от Бога не отрекалась. «Дураки вы, дураки, – говорила она, – главное-то в жизни – Бог, а вы потеряли Бога, да Он не сразу откроется вам».
Утром и вечером она вставала на молитву перед иконами в восточном углу, где тихо мерцала зеленая лампадка, и просила у Бога не здоровья, не достатка, не еще каких-либо благ, а просила она, чтобы скорее кончилось это безбожное время, вновь открылись храмы и вновь запели Пасху. Раз в году, на Светлое Христово Воскресение, ездила она в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы исповедаться и причаститься. Возвращалась тихая, задумчивая, и в ее голубых глазах светилась радость.
Лето уже приближалось к концу, но дни еще стояли теплые, солнечные. Я брал у бабушки Евангелие – книгу в то время редкую, запрещенную, и уходил в сад. Там, лежа на траве, среди сухого малинника, я долго смотрел на плывущие в небе облака и думал о том, что вся жизнь у меня еще впереди, что в ней еще будут радости, а может быть, скорби. Но скорбей пока еще не было, и я, повернувшись набок и подперев голову ладонью, читал Евангелие: «Авраам родил Исаака; Иаков родил Иуду и братьев его». И как-то сладостно было на сердце от этих простых слов: «Авраам родил Исаака», – и наше зыбкое временное и непрочное бытие виделось неколебимым и вечным, и на призыв Христа – «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», – хотелось ответить радостными слезами и, взяв посох и котомку, ни о чем не думая, идти к дальним неведомым горизонтам.
Я подолгу читал Евангелие, осторожно переворачивая пожелтевшие страницы, пока на крыльцо не выходила бабушка Серафима и, приставив к глазам козырьком ладонь, высматривала меня в саду и кричала: «Валюша, иди обедать!»
В те далекие послевоенные голодные годы обед был немудреный. На первое бабушка подавала постные щи, обильно посыпанные укропом. На второе – оладьи из вчерашней пшеничной каши, политые горьковатым льняным маслом, на третье – чай с сахарином. Чай у бабы Серафимы был возведен в культ. Пила она его только из самовара, который кипятила уже с раннего утра. «Пока я не выпью чая, я как неживая, – говорила она. – Надо, надо брюхо чайком прополоскать». После чая она и впрямь оживлялась и принималась за дела. Дел у нее было много: пойти привязать козу на травку, покормить обедом своих воспитанников, когда они придут с работы. Все она делала спокойно, не торопясь, все с молитвой. Поэтому и приготовления ее всегда были вкусные. Вспоминала она и Бурылина – из стеклянной горки доставала плоский заветный ящик и показывала серебряные ложки и вилки, которые не продала и не променяла в самый лютый голод.
– Я за свою жизнь никого не обижала, всех жалела и многим помогала, как могла. Можете по всему Иванову пройти и спрашивать: обижала ли кого бабка Серафима? Я думаю, что такого человека не найдете, – как-то вечером, сидя за чаем, без хвастовства говорила она. – Наш род пришел в Иваново-Вознесенск с реки Суры. Она впадает в Волгу. Там мы жили, пока не приехал к нам вербовщик, приказчик бурылинский, набирать ткачих на фабрику. Приказчик молодой, пригожий, веселый, говорил сладко, приманчиво, плясал, играл на гармошке. Ну, девки с нашей деревни, все мои сродницы, и двинулись скопом в Иваново. Там очень-то хорошо не было, но и плохо не было. Девок вскоре разобрали замуж, а меня, рябую, никто не взял. Так и осталась вековухой. Кому рябая нужна? Вот на фабрике меня ценили за работу. При советской власти я больше наставницей была для молодых ткачих.
Хотя бабушка Серафима потомства не оставила, но воспитала двух сирот и на работе не посрамилась. Умерла она легко, потому как больших грехов за ней не водилось. Вечером помолилась, легла спать, так и уснула вечным сном. Пришли ее подруги-старушки, обмыли, опрятали покойную, читали по очереди Псалтирь. Воспитанники, тем временем, поехали в Сергиев Посад отыскивать батюшку. Нашли заштатного, старого и очень нуждающегося батюшку. Привезли его в Иваново. Отпевать пришлось на дому, и батюшка отпел Серафиму по полному чину. Все было сделано честь по чести. Погребение совершили на кладбище возле Куваевского леса. На могиле поставили православный крест с надписью: «Серафима Ивановна Новикова». Подарок от Бурылина она завещала продать, а вырученные деньги отвезти в Троице-Сергиеву Лавру на помин души, что и было сделано.
1942 год на Волге
Рассказ старого солдата
Вхождение в войну обычно начинается с вокзала, где происходит погрузка воинской части в эшелон, составленный из платформ и старых щелястых обшарпанных товарных вагонов, в которых теснились солдаты. На платформах везли полевые кухни, танки, грузовики, пушки и зенитные установки с прислугой на случай налета немецких «юнкерсов».
На дворе еще стояло бабье лето, и поэтому двери вагонов были открыты, но перегорожены деревянной балкой, чтобы какой растяпа не вывалился на ходу. Немецкая авиация уже активно действовала в этом регионе, и поэтому наш эшелон двинулся ночью. Видимо, машинист не отличался деликатностью, вначале осадил назад так, что лязгнули стальные буфера, а затем резко рванул вперед, так что мы горохом посыпались с вагонных нар на пол с криком и матерком в его адрес. Мы были полностью экипированы и оснащены всем, что полагается по штату. Во-первых, громоздкой мосинской винтовкой образца 1891 года с трехгранным штыком вороненой стали, про который наш старшина Степан Охрименко, протирая его суконкой, любил говаривать, что «пуля дура, а штык молодец».
На ремне в патронных сумках – полный комплект обойм с новенькими желтыми патронами и торчащими из них острыми пулями, которые я бы не назвал дурами. При ходьбе по заду ритмично хлопала саперная лопатка в чехле, годная не только для копания, но и для схватки в траншеях в ближнем бою. Стальная каска спасала только от комьев земли и камней, но осколки снарядов довольно легко рвали и дырявили ее. На боку в зеленой торбе висел еще противогаз с носатой резиновой харей, тут же был прицеплен круглый солдатский котелок – наш лучший друг и питатель, неразлучный до могилы. Пилотка с красной звездочкой украшала, но не грела наши головы. Серая шинельная скатка – дорогая подруга на всю солдатскую жизнь. На ногах грубые тяжелые ботинки на резиновом ходу с обмотками до колен. В брюках-галифе – узкий специальный карманчик с роковым черным пластмассовым футлярчиком, куда вкладывалась бумажка с нашей фамилией и адресом родителей и который была обязана сохранить похоронная команда.
А паровоз наш несется по степи во тьме ночной, выбрасывая из трубы клубы черного дыма с огненными искрами, и везет он нас не на побывку к матери в деревню, а в самое жерло, самое пекло сражения за Сталинград. Хочется высунуть голову в дверь, чтобы хватить глоток свежего воздуха, но высовываться нельзя, сразу схватишь кусок угля в глаз и намучаешься с ним потом. Потом стук колес, заунывно играет гармошка. Это наш ефрейтор Вася Селезнев, свесив с нар ноги, играет и поет сиплым прокуренным голосом: «Черный ворон, что ты вьешься надо моею головой, ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой».
Старшина Охрименко ругается и приказывает Васе рвануть что повеселее. Вася делает задорное вступление и поет, как с «одесского кичмана бежали три уркана…»
Утром старшина, вскрыв несколько банок с американской колбасой и разрезав ее финкой на вертикальные дольки, производил солдатский дележ. Наводчик противотанкового ружья Кузьма Брюханов был поставлен лицом к вагонной стенке выкрикивать фамилии. Старшина, подцепив финкой кусок колбасы, спрашивал Кузьму: «Кому?!» Кузьма кричал: «Иванову». Иванов подходил и снимал с ножа свою долю. Старшина опять кричал: «Кому?!» Кузьма: «Юсупову!» Старшина с куском колбасы на ноже обернулся к Юсупову: «Юсупыч, колбаса из чушки. Будешь брать?»
Юсупов – коренастый узбек, заряжающий ПТР, – осклабившись, подошел и, сняв кусок, положил его на хлеб. «Чушка, барашка, все равно кушать мала-мала надо. Барашек ёк – кушай чушка, чушка ёк – кушай махан».
Впоследствии, когда немец вплотную прижал нас к берегу Волги, а снабжение из-за ледохода прекратилось, то все мы ели махан и радовались еще, что нам подвернулась старая кляча. Поев и попив из канистры воды, курили сибирскую махорку «Бийский охотник». Щепотью доставали из кисетов грубую крошковатую махорку, сыпали ее на клочок армейской газеты и завертывали, послюнив края. Старшина Охрименко свертывал себе солидную козью ножку, и вагон наполнялся синим махорочным дымом так, что некурящие заходились в кашле и старались держаться ближе к открытой двери. Крепка и забориста была фронтовая махорка. Про то, что нас ожидает, старались не говорить, а больше вспоминали то, что оставили дома. Война уже показала свой страшный оскал. В степи за станицей Лиски три немецких «юнкерса-88», покружась каруселью, пошли в пике на эшелон и клали бомбы по обе стороны полотна. С платформ огрызались скорострельные зенитные пушки и строчили крупнокалиберные пулеметы. От одного «юнкерса» пошел легкий дымок, и все они, развернувшись, ушли на запад. В нашем вагоне осколком бомбы убило молодого солдатика Родионова. Небольшая такая ранка была в правом виске, и крови-то вытекло совсем мало, но тем не менее он был мертв. Хоронили его на полустанке в степи. Место нашли на горке, сухое, песчаное, могилку выкопали неглубокую, просторную и положили его во всем одеянии: гимнастерка с застегнутым ремнем, пилотка со звездочкой, сапоги новые на нем. Все честь по чести. Лежит родимый, молодой, красивый парень, и все при нем. Жить ему да жить, а тут засыпали землей и отправили в веки вечные. Дали салют из винтовок и разошлись по вагонам.
Наконец ночью мы прибыли к Волге, переправились на левый берег и стали в резерв недалеко от Средней Ахтубы. Страшно было смотреть, что происходило на правом берегу. Сталинград, протянувшийся по правому берегу Волги на пятьдесят километров, был весь в огне. Черным дымом заволокло небо, и не было видно солнца. Немецкая авиация делала на город по две, иногда по три тысячи вылетов в день. Сбрасывали не только мелкие осколочные бомбы, но и бомбы по половине и по тонне весом, так что земля взмывалась и ходила ходуном, как при землетрясении. Кроме бомб для устрашения немцы сбрасывали рельсы, железные тракторные колеса, бороны, листы котельного железа, и все это с диким воем, скрежетом и лязгом летело с неба в город.
Сами «юнкерсы», входя в пике, включали мощные сирены, и тут только от одних адских звуков душа готова была выскочить из тела. Перед нами была прижатая врагом к берегу Волги 62-я армия генерала Василия Ивановича Чуйкова. В виде дуги флангами она опиралась на берег, фронтом же занимала несколько улиц. Немцы через радиоустановку призывали сдаваться: «Рус, завтра Вольга буль-буль!» Против наших двух армий, защищавших Сталинград, – 62-й и 64-й, уже потрепанных и обескровленных еще на подступах к городу, стояли мощные, постоянно пополняемые солдатами и техникой, 6-я армия генерала Паулюса, 4-я танковая армия генерала Гота, группировка из нескольких дивизий «Шехель», 4 румынские пехотные дивизии и 4-й немецкий воздушный флот, имеющий более тысячи боевых самолетов.
Переправа на правый берег Волги обычно осуществлялась по ночам в целях безопасности, но все равно немцы по ночам беспрерывно подвешивали над переправой осветительные ракеты и вели обстрел из орудий и крупнокалиберных пулеметов по бронекатерам и баржам. Потери при переправе были всегда, и Волга, окрашиваясь кровью, несла вниз по течению тела русских солдат и обломки барж.
Утром, прибыв на правый берег, я увидел дымящийся и лежащий в руинах город с почти непроходимыми улицами, заваленными обрушившимися стенами домов, столбами и деревьями. Среди руин стояли разбитые сгоревшие танки, бронетранспортеры, грузовики и лежала целая армия трупов. Они были везде: в руинах домов, на улицах, в подвалах, в оврагах и траншеях. Особенно меня поразила пересекающая город река Царица, протекавшая в узкой глубокой балке, русло которой было сплошь завалено трупами, так что не было видно и воды. Они лежали в разных нелепых позах, раздувшиеся и страшные в своем неправдоподобии. Немцы не прекращали свои атаки ни на один день. В том числе, пытаясь по мелкому руслу реки Царицы прорваться к Волге, где их и уничтожали шквальным пулеметным огнем.
Из вновь прибывших бойцов формировали штурмовые группы для ночных боев. Группы были небольшие, не более шести человек. Вместо винтовок нам выдали автоматы Шпагина, гранаты и ножи, а мне еще дали ранцевый огнемет. Командовал нами опытный в ночных боях сержант. Нашей задачей было ночной вылазкой проникнуть в дома, где на верхних этажах засели немецкие снайперы и солдаты с крупнокалиберными пулеметами, обстреливавшими водную переправу, и уничтожить их, а также минировать эти дома и подходы к ним. Тихо, как тени, пробирались мы в развалинах, прислушиваясь, где могли находиться немцы. Обнаружив их, мы действовали молниеносно: подкравшись, бросали в помещение гранату и после взрыва давали еще очереди из автоматов, и, если этого им было мало, я бил туда огненным шквалом из огнемета. После этого мы также быстро исчезали, чтобы избежать скорого возмездия. Итак, всю ночь крались мы по развалинам, выискивая очередные жертвы, и опять быстрый бросок и отступление. Бывало, что не все возвращались из ночных рейдов: некоторые были убиты, некоторые попали в плен. Раненых товарищей мы тащили на себе, сдавали их в медсанбат у переправы. Как-то быстро наступили зимние холода, и мы дрогли от холода в своих землянках. Печурку топить было нельзя, так как немцы сразу засекали дым и начинали обстрел из минометов. Они уже были близко от наших позиций, буквально в ста метрах, а кое-где на бросок гранаты. На Волге образовалась шуга, а потом пошел лед, и снабжение на какое-то время прекратилось, потому что лодки и катера затирало льдинами. На помощь пришла авиация, сбрасывая на парашютах боеприпасы и продовольствие, но немцы были так близко от нас, что часть грузов попала к ним.
Хитрый узбек Юсупов придумал какой-то особенный дымоход, шедший по земле и прикрытый ветками, чтобы дым рассеивался. Тогда мы обогрелись и варили мерзлую конину.
Юсупыч говорил: «Чушка ёк, махан бар. Война кончал, все ко мне в Коканд едем. Месяц сидеть будем, плов кушать будем, кок-чай пить будем».
– Вряд ли, Юсупыч, придется тебе кок-чай пить. Отсюда живым не уйдешь, – сказал старшина.
– Не надо меня убивать, дома маленький баранчук есть. Кто им кушать будет давать, если Юсуп помирай?
– Это что, барашков ты что ли жалеешь? – спросил старшина.
– Нет, баранчук эта мой маленький детишка есть.
Помню, в декабре на немецкое Рождество было затишье, да и немцы уже потеряли свой дух, потому что не смогли выполнить приказ Гитлера: «Во что бы то ни стало овладеть Сталинградом и сбросить русских в Волгу». И мало того, сами уже попали в окружение, но сдаваться не хотели и бешено оборонялись, наносили урон нашим войскам и сами несли большие потери.
На этот раз нам дано задание ликвидировать пулеметные гнезда на верхних этажах дома специалистов. Около двенадцати часов ночи мы прокрались к этому дому и, затаившись, выясняли обстановку. Немцы спустились в нижний этаж дома и справляли свое Рождество. Их было четверо, по голосам мы определили, что они находятся в порядочном подпитии. Было слышно, как один играл на губной гармошке, а другие пели рождественскую песню «Хайлиге Нахт». Пели пьяными голосами и с какой-то большой тоской, так как знали, что дела их плохи и близок полный разгром.
Это были пулеметчики, которые постоянно обстреливали нашу переправу. Один из них, продолжая напевать, вышел из дома и стал мочиться на стенку. Я прыгнул на него сзади и ударил финкой в шею. Из раны хлынул фонтан крови, и он, захрипев, повалился на снег. Я обшарил его карманы и вынул документы. Тут из-за облака вышла луна, и я увидел у него на брюках привинченный советский орден Красной Звезды. Я быстро вырезал его финкой и положил в карман. Потом подозвал товарищей, и мы приготовились к броску. Немцы из комнаты уже звали пропавшего Вилли. Мы ворвались в помещение и перекололи их ножами. Поднявшись на верхний этаж, обнаружили два крупнокалиберных пулемета и привели их в негодность.
Днем мы обычно отсыпались в блиндаже, хотя немцы предпринимали беспрерывные атаки, а с левого берега в расположение немцев с воем летели реактивные снаряды «катюши» и снаряды тяжелой артиллерии. Все тряслось, грохотало, с накатов на нас сыпалась земля, но мы привыкли и спали.
Проснувшись, мы садились закусывать. Были у нас трофейные деликатесы, принесенные из ночных рейдов. Если бы не эти трофеи, то мы почти всегда ходили бы голодные, потому что со снабжением было плохо. Главное, чтобы были боеприпасы, а уж снабжение пищевым довольствием было на втором месте. Из трофеев, помню, ели мы итальянские сардины, упакованный в пленку непортящийся немецкий хлеб. Спаржу в банках мы попробовали и выбросили, как не подходящий для русского брюха продукт. Ели шоколад в круглых оранжевых коробках. Сибирская махорка к нам давно уже не поступала, и нам приходилось курить слабые сигареты с верблюдом на пачке под названием «Варум ист яно рунд». Попадался нам отличный французский коньяк, а немецкий «шнапс» был сущая дрянь, наверное, из опилок.
Запасались мы и немецкими боевыми гранатами. Они имели длинную деревянную пустотную ручку, и гранату можно было прицельно и далеко бросить, а когда она падала, то ручка не позволяла ей катиться в сторону от цели. Однажды ефрейтор Вася Селезнев спрашивал старшину Охрименко:
– А правда, Степан, что с немцами Сам Бог?
На что старшина Охрименко, постучав согнутым пальцем по Васиному лбу, обозвал его глупым теля. И дал такое объяснение:
– С ними не Бог, а сатана, если посмотреть, что они творят с нашей страной и нашим народом. Вот был прекрасный город Сталинград, а во что они его превратили?! Пепел, камни и трупы. А то, что с ними Gott, то это правда, но какой Gott? Разве ты не знаешь, кто у них командует танковой армией? Да сам генерал Гот. Вот тебе и «Gott mit uns»!
– И то правда, старшина.