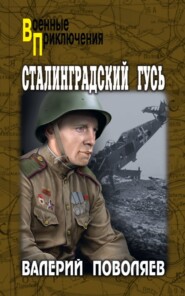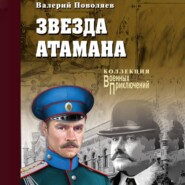По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
День отдыха на фронте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это спрячь подальше, чтобы никто не вытащил.
– Чего это? – поинтересовался Вольт машинально, хотя знал, что это.
– Деньги, – коротко ответила мать, в голосе ее возникли и тут же пропали твердые нотки. – Деньги береги, их у нас мало.
– По машинам! – послышалась команда из штабного автобуса, и люди стали поспешно забираться в грузовики.
– Ну, все, – мать торопливо обняла сына, от нее пахло лекарствами, дух этот он ощутил только сейчас, подумал: а мать, наверное, принимает какие-нибудь порошки или микстуры, чтобы держаться на ногах, в глотке у нее опять возникло твердое сухое свербенье. – Все, Вольт, долгие проводы – лишние слезы.
Вскоре госпитальная колонна скрылась за длинным рядом бараков местного поселка, в воздухе осталось висеть облако острого бензинового духа. Вольт вздохнул – ему сделалось жаль самого себя.
Расстроенный, подмятый прощанием, он двинулся к детской группе, прибывшей на армейском автобусе с подпаленным боком: вчера на него напал «мессер», кинул несколько небольших бомб… Хорошо, что пулеметные кассеты у немца были пусты, а из пальца фриц стрелять не умел, попробовал мелкими фугасками попасть в автобус, но затея была напрасной – шофер от бомб увернулся, хотя бок своей машины подпалил.
Шофер – молодой, с лихими казачьими усиками парень, – еще не отошел от вчерашней истории и готов был рассказывать о ней всякому, кто готов был его выслушать.
К автобусу Вольт пришел вместе с командиром в длинной шинели с тремя кубарями в петлицах.
– Ты, Перебийнос, хотя бы горелую черноту на своем фургоне закрасил, – не замедлил придраться командир. – Чего детишек пугать?
– Да не успел, товарищ политрук, – шофер виновато вытянулся. – Звыняйте!
– Звыняйте, звыняйте, – передразнил его командир, приложил ладонь к щеке – у него болели зубы… Болящие зубы на фронте – штука редкая. Куда чаще – боль в оторванной снарядом ступне или в руке, ампутированной в госпитале. Не выдержал политрук, застонал, пощупал языком больной зуб.
Глянул на шофера, которого только что распекал, промычал глухо:
– Лопухнулся я, из госпитальных никого не застал. Они бы помогли, дали б какую-нибудь успокаивающую примочку, например, бромовую, – он сморщился, словно бы вспомнил о чем-то неприятном, – а может, и не бромовую, может, еще какую-нибудь, черт их знает – и врачей, и примочки. У тебя ничего от зубной боли не найдется? – Он вновь глянул на водителя, на этот раз с надеждой. – Стреляет, хуже нет. Фрицы, и те иной раз бывают милосерднее.
– Немного водки есть, можно прополоскать или даже сделать компресс – это поможет… Больше ничего нет, товарищ политрук.
– М-м-м! – раздался вздох боли. Сопровождающий, словно бы боясь сделать лишнее движение, мягко оттолкнулся от чего-то невидимого и просипел, превратив свое лицо в некий сморщенный фрукт неведомого происхождения. – Поехали! У нас не так много времени.
Вольт оглянулся на низкие засыпушки поселка, за которыми скрылись последние машины госпитальной колонны. Машин не было видно – ушли. Все ушли! Губы у него шевельнулись сами по себе, он прижал к ним пальцы. Ну, вот и остался он один… Хуже этого ничего быть не могло.
– Ребята, давайте в автобус, – заторопился шофер. Видя, что ошалевший от зубной боли политрук будет сейчас корчиться и давать неверные команды, он взял дело в свои руки. – Быстрее, быстрее! Как бы фрицы не налетели после своего обеденного кофию… Быстрее!
Через пять минут автобус уже плыл, будто судно по мокрой, с широкими лужами дороге.
Неожиданно впереди Вольт увидел сидящих сразу за водителем двух пареньков – помощников, которых он с Петькой получил под свое крыло при расчистке невской набережной – Кирилла и Борьку, оба были посвежевшие – избавились от голодной синюшности, заставлявшей их щеки буквально светиться, словно пареньков этих подключали к какому-то электрическому прибору, – а сейчас этого не было, это ушло, – значит, подкормились ребята. Вольт приподнялся на сидении и негромко окликнул одного из них:
– Кирилл! – потом окликнул другого: – Борька!
Это действительно были они, его помощники, Борька и Кирилл, оба встали, вскинули приветственно руки, будто пионеры на линейке.
Но что-то отделяло их от людей, находившихся в автобусе, ни с кем из присутствовавших они не были знакомы, в этом Вольт разобрался довольно быстро, более того – чувствовалось, что они были в этом коллективе людьми посторонними, если вообще не чужими, и это также было написано на их лицах.
Собственно, сам Вольт находился в точно таком же положении – никого из ребят, сидевших в автобусе, он не знал.
Автобус подбрасывало на неровностях, колеса юзили, выплескивали на обочины длинные снопы грязи, сопровождающий невольно хватался за опухшую щеку, морщился, наконец он не выдержал и вновь обратился к шоферу – больше ему обращаться было не к кому:
– Слушай, сержант, неужели в твоем хозяйстве ничего обезболивающего не найдется? Я заплачу… А?
Шофер отрицательно помотал головой:
– Ничего не найдется, абсолютно точно, товарищ политрук! – Шофер пригнулся, глянул из-под козырька кабины вверх, в осветленную синеву неба и пробормотал с облегчением: – Свят, свят, свят еси… Почудилось, что «мессеры» гудят.
«Мессершмитты» были недоброй напастью для шоферов (собственно, всякая напасть и беда добрыми не бывают) – нападали подло, исподтишка, кусали больно, исчезали так же быстро, как и появлялись.
– М-м-мык! – надломленно простонал политрук, похоже было, что боль скоро совсем доймет его, Вольту было жаль этого человека.
Кирилл с Борькой, сидевшие в первом пассажирском ряду, раза три оглянулись на него, что-то говорили, даже кричали ему, но Вольт из-за режущего, способного погасить любой звук автобусного мотора ничего не слышал, показывал пальцами себе на уши и отрицательно мотал головой: ни шута, мол, до него не доходит, только машинный вой…
Серенькая невзрачная станция, окруженная не только старыми жилыми постройками, но и домами-времянками, сооруженными из щитов, которыми колхозники на полях когда-то задерживали снег, палатками, покалеченными вагонами, в которых тоже обитали люди, обладала хорошей пропускной способностью. Прибывавшие с грузами для фронта вагоны здесь старались разгрузить как можно скорее и вытолкнуть в обратный путь…
По-другому нельзя: станция была очень лакомым куском для немецких летчиков, притягивала фрицев к себе, как пролитое на стол варенье притягивает мух; не любившие пасмурную погоду летуны люфтваффе атаковывали этот кусок земли, даже когда от туч в небе не было возможности протолкнуться.
Автобус разгрузился – на это понадобилось не более двух минут, – и стонущий от зубной боли политрук поспешил ретироваться на нем со станции. От греха, как говорится, подальше, зато к медицине и шкалику казенного спирта, который ему обязательно нальет какой-нибудь знакомый снабженец, поближе.
Борька с Кириллом стояли отдельно от ребят и настороженно оглядывались. Вольт не замедлил нарисоваться около них. Оценив их лица, поинтересовался:
– Вы чего, мужики, такие смурные?
Кирилл – похудевший, с запавшими глазами, – опустил голову:
– Веселого в жизни мало, вот и смурные.
– Случилось чего?
– В дом наш попал снаряд. Деда уложило, мать уложило и сестренку… Только мы вдвоем остались.
Вольт сочувственно покачал головой, хотел что-нибудь сказать, но махнул рукой, слова здесь – лишние, обычное молчание часто бывает сильнее слов, какими бы точными, отлитыми из золотого материала они ни были… Но молчать тоже было нельзя.
– Ё-моё, – у Вольта наконец прорезался голос, он покрутил головой, словно бы хотел перекрыть услышанное чем-нибудь иным, своим, другой новостью, но не сообразил, что сказать, и, опустив голову, обнял их за плечи. – Держитесь, мужики!
Долго глазеть на станционные завалы, палатки и покалеченные бомбежками постройки не пришлось, – появилась чернявая волоокая женщина, похожая на гордую горную птицу, брызнула секущим огнем из больших черных глаз, сильно брызнула – Вольту показалось, что на его земляках даже задымилась одежда.
– Ребята, быстрее в вагон, не то, глядишь, немцы налетят – отчалить от перрона не успеете. Это будет беда.
Женщина была одета в железнодорожную командирскую шинель, в руке держала жезл из нержавейки. Не знала она, что ленинградцев бесполезно пугать словом «беда», они пережили нечто такое, чего не переживал даже здешний узловой поселок, привыкший к бомбам, как к своей судьбе. Фрицы из кожи вылезали, стараясь либо сровнять его с землей, либо захватить… Но не сровняли и не захватили.
– За мной, ребята! – железнодорожная женщина махнула жезлом, подавая команду группе детей, будто литерному поезду, и эвакуированные ребятишки потянулись за ней.
– Не отставайте, – подогнала их провожатая, по длинной изувеченной дорожке прошла в тупик и свернула к теплушке, к обгорелым бокам которой было прибито несколько свежих досок.
У теплушки стояли двое красноармейцев в телогрейках – специально были выделены в помощь, чтобы подсаживать ребят в вагон – забираться в теплушку было неудобно.
Через пятнадцать минут железнодорожная женщина, стоя на металлической скобе-ступеньке вагона, спокойно и деловито помахивая жезлом, подогнала теплушку к товарняку, стоявшему на парах. Звонко стукнули друг о дружку буфера, залязгали сцепы, зашипел хобот тормозного шланга, тяжелый, обсыпанный угольной пылью паровоз окутался паром, дал свисток, и вскоре под колесами товарняка звонко застучали рельсовые стыки. Вагон с эвакуированными питерскими ребятишками шел в составе последним.
Вольт ухватился пальцами за край рамки, врезанной в бок вагона, это было окошко без стекол, – подтянулся, глянул, что там снаружи?
– Чего это? – поинтересовался Вольт машинально, хотя знал, что это.
– Деньги, – коротко ответила мать, в голосе ее возникли и тут же пропали твердые нотки. – Деньги береги, их у нас мало.
– По машинам! – послышалась команда из штабного автобуса, и люди стали поспешно забираться в грузовики.
– Ну, все, – мать торопливо обняла сына, от нее пахло лекарствами, дух этот он ощутил только сейчас, подумал: а мать, наверное, принимает какие-нибудь порошки или микстуры, чтобы держаться на ногах, в глотке у нее опять возникло твердое сухое свербенье. – Все, Вольт, долгие проводы – лишние слезы.
Вскоре госпитальная колонна скрылась за длинным рядом бараков местного поселка, в воздухе осталось висеть облако острого бензинового духа. Вольт вздохнул – ему сделалось жаль самого себя.
Расстроенный, подмятый прощанием, он двинулся к детской группе, прибывшей на армейском автобусе с подпаленным боком: вчера на него напал «мессер», кинул несколько небольших бомб… Хорошо, что пулеметные кассеты у немца были пусты, а из пальца фриц стрелять не умел, попробовал мелкими фугасками попасть в автобус, но затея была напрасной – шофер от бомб увернулся, хотя бок своей машины подпалил.
Шофер – молодой, с лихими казачьими усиками парень, – еще не отошел от вчерашней истории и готов был рассказывать о ней всякому, кто готов был его выслушать.
К автобусу Вольт пришел вместе с командиром в длинной шинели с тремя кубарями в петлицах.
– Ты, Перебийнос, хотя бы горелую черноту на своем фургоне закрасил, – не замедлил придраться командир. – Чего детишек пугать?
– Да не успел, товарищ политрук, – шофер виновато вытянулся. – Звыняйте!
– Звыняйте, звыняйте, – передразнил его командир, приложил ладонь к щеке – у него болели зубы… Болящие зубы на фронте – штука редкая. Куда чаще – боль в оторванной снарядом ступне или в руке, ампутированной в госпитале. Не выдержал политрук, застонал, пощупал языком больной зуб.
Глянул на шофера, которого только что распекал, промычал глухо:
– Лопухнулся я, из госпитальных никого не застал. Они бы помогли, дали б какую-нибудь успокаивающую примочку, например, бромовую, – он сморщился, словно бы вспомнил о чем-то неприятном, – а может, и не бромовую, может, еще какую-нибудь, черт их знает – и врачей, и примочки. У тебя ничего от зубной боли не найдется? – Он вновь глянул на водителя, на этот раз с надеждой. – Стреляет, хуже нет. Фрицы, и те иной раз бывают милосерднее.
– Немного водки есть, можно прополоскать или даже сделать компресс – это поможет… Больше ничего нет, товарищ политрук.
– М-м-м! – раздался вздох боли. Сопровождающий, словно бы боясь сделать лишнее движение, мягко оттолкнулся от чего-то невидимого и просипел, превратив свое лицо в некий сморщенный фрукт неведомого происхождения. – Поехали! У нас не так много времени.
Вольт оглянулся на низкие засыпушки поселка, за которыми скрылись последние машины госпитальной колонны. Машин не было видно – ушли. Все ушли! Губы у него шевельнулись сами по себе, он прижал к ним пальцы. Ну, вот и остался он один… Хуже этого ничего быть не могло.
– Ребята, давайте в автобус, – заторопился шофер. Видя, что ошалевший от зубной боли политрук будет сейчас корчиться и давать неверные команды, он взял дело в свои руки. – Быстрее, быстрее! Как бы фрицы не налетели после своего обеденного кофию… Быстрее!
Через пять минут автобус уже плыл, будто судно по мокрой, с широкими лужами дороге.
Неожиданно впереди Вольт увидел сидящих сразу за водителем двух пареньков – помощников, которых он с Петькой получил под свое крыло при расчистке невской набережной – Кирилла и Борьку, оба были посвежевшие – избавились от голодной синюшности, заставлявшей их щеки буквально светиться, словно пареньков этих подключали к какому-то электрическому прибору, – а сейчас этого не было, это ушло, – значит, подкормились ребята. Вольт приподнялся на сидении и негромко окликнул одного из них:
– Кирилл! – потом окликнул другого: – Борька!
Это действительно были они, его помощники, Борька и Кирилл, оба встали, вскинули приветственно руки, будто пионеры на линейке.
Но что-то отделяло их от людей, находившихся в автобусе, ни с кем из присутствовавших они не были знакомы, в этом Вольт разобрался довольно быстро, более того – чувствовалось, что они были в этом коллективе людьми посторонними, если вообще не чужими, и это также было написано на их лицах.
Собственно, сам Вольт находился в точно таком же положении – никого из ребят, сидевших в автобусе, он не знал.
Автобус подбрасывало на неровностях, колеса юзили, выплескивали на обочины длинные снопы грязи, сопровождающий невольно хватался за опухшую щеку, морщился, наконец он не выдержал и вновь обратился к шоферу – больше ему обращаться было не к кому:
– Слушай, сержант, неужели в твоем хозяйстве ничего обезболивающего не найдется? Я заплачу… А?
Шофер отрицательно помотал головой:
– Ничего не найдется, абсолютно точно, товарищ политрук! – Шофер пригнулся, глянул из-под козырька кабины вверх, в осветленную синеву неба и пробормотал с облегчением: – Свят, свят, свят еси… Почудилось, что «мессеры» гудят.
«Мессершмитты» были недоброй напастью для шоферов (собственно, всякая напасть и беда добрыми не бывают) – нападали подло, исподтишка, кусали больно, исчезали так же быстро, как и появлялись.
– М-м-мык! – надломленно простонал политрук, похоже было, что боль скоро совсем доймет его, Вольту было жаль этого человека.
Кирилл с Борькой, сидевшие в первом пассажирском ряду, раза три оглянулись на него, что-то говорили, даже кричали ему, но Вольт из-за режущего, способного погасить любой звук автобусного мотора ничего не слышал, показывал пальцами себе на уши и отрицательно мотал головой: ни шута, мол, до него не доходит, только машинный вой…
Серенькая невзрачная станция, окруженная не только старыми жилыми постройками, но и домами-времянками, сооруженными из щитов, которыми колхозники на полях когда-то задерживали снег, палатками, покалеченными вагонами, в которых тоже обитали люди, обладала хорошей пропускной способностью. Прибывавшие с грузами для фронта вагоны здесь старались разгрузить как можно скорее и вытолкнуть в обратный путь…
По-другому нельзя: станция была очень лакомым куском для немецких летчиков, притягивала фрицев к себе, как пролитое на стол варенье притягивает мух; не любившие пасмурную погоду летуны люфтваффе атаковывали этот кусок земли, даже когда от туч в небе не было возможности протолкнуться.
Автобус разгрузился – на это понадобилось не более двух минут, – и стонущий от зубной боли политрук поспешил ретироваться на нем со станции. От греха, как говорится, подальше, зато к медицине и шкалику казенного спирта, который ему обязательно нальет какой-нибудь знакомый снабженец, поближе.
Борька с Кириллом стояли отдельно от ребят и настороженно оглядывались. Вольт не замедлил нарисоваться около них. Оценив их лица, поинтересовался:
– Вы чего, мужики, такие смурные?
Кирилл – похудевший, с запавшими глазами, – опустил голову:
– Веселого в жизни мало, вот и смурные.
– Случилось чего?
– В дом наш попал снаряд. Деда уложило, мать уложило и сестренку… Только мы вдвоем остались.
Вольт сочувственно покачал головой, хотел что-нибудь сказать, но махнул рукой, слова здесь – лишние, обычное молчание часто бывает сильнее слов, какими бы точными, отлитыми из золотого материала они ни были… Но молчать тоже было нельзя.
– Ё-моё, – у Вольта наконец прорезался голос, он покрутил головой, словно бы хотел перекрыть услышанное чем-нибудь иным, своим, другой новостью, но не сообразил, что сказать, и, опустив голову, обнял их за плечи. – Держитесь, мужики!
Долго глазеть на станционные завалы, палатки и покалеченные бомбежками постройки не пришлось, – появилась чернявая волоокая женщина, похожая на гордую горную птицу, брызнула секущим огнем из больших черных глаз, сильно брызнула – Вольту показалось, что на его земляках даже задымилась одежда.
– Ребята, быстрее в вагон, не то, глядишь, немцы налетят – отчалить от перрона не успеете. Это будет беда.
Женщина была одета в железнодорожную командирскую шинель, в руке держала жезл из нержавейки. Не знала она, что ленинградцев бесполезно пугать словом «беда», они пережили нечто такое, чего не переживал даже здешний узловой поселок, привыкший к бомбам, как к своей судьбе. Фрицы из кожи вылезали, стараясь либо сровнять его с землей, либо захватить… Но не сровняли и не захватили.
– За мной, ребята! – железнодорожная женщина махнула жезлом, подавая команду группе детей, будто литерному поезду, и эвакуированные ребятишки потянулись за ней.
– Не отставайте, – подогнала их провожатая, по длинной изувеченной дорожке прошла в тупик и свернула к теплушке, к обгорелым бокам которой было прибито несколько свежих досок.
У теплушки стояли двое красноармейцев в телогрейках – специально были выделены в помощь, чтобы подсаживать ребят в вагон – забираться в теплушку было неудобно.
Через пятнадцать минут железнодорожная женщина, стоя на металлической скобе-ступеньке вагона, спокойно и деловито помахивая жезлом, подогнала теплушку к товарняку, стоявшему на парах. Звонко стукнули друг о дружку буфера, залязгали сцепы, зашипел хобот тормозного шланга, тяжелый, обсыпанный угольной пылью паровоз окутался паром, дал свисток, и вскоре под колесами товарняка звонко застучали рельсовые стыки. Вагон с эвакуированными питерскими ребятишками шел в составе последним.
Вольт ухватился пальцами за край рамки, врезанной в бок вагона, это было окошко без стекол, – подтянулся, глянул, что там снаружи?