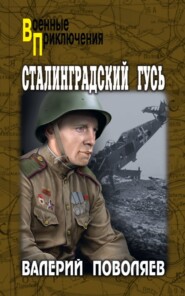По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разбитое зеркало (сборник)
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вопрос этот не только вызывал некую озадаченность, но и раздражение, Тихонов старался сдерживать себя и отвечал коротко и жестко, будто отрубал кусок проволоки:
– Нет, не в честь.
Впрочем, однажды он не сдержался, не стал сдерживать себя, отпустил тормоза и сказал интеллигентной старушке, выписывавшей ему абонемент в кинолекторий:
– А вы пойдите от обратного и проанализируйте: может, поэт Тихонов взял это имя в мою честь? Такое может быть?
Старушка согласилась с ним и произнесла очень добродушно:
– А почему бы и нет?
– Вот именно, – не поддержал ее добродушного тона Тихонов, – но на всякий случай мне остается только одно: научиться писать стихи.
Колючесть его старушку не обидела, она вновь добродушно улыбнулась.
– Это тоже может пригодиться в жизни, молодой человек, – проговорила она ровным благожелательным тоном и подчеркнула, словно бы намекая, что Тихонов еще недостаточно пожил на свете, чтобы иметь право на колючие суждения и менторский тон, – м-да, молодой человек! Пожалуйте в мир кино, – она протянула Тихонову узкий бумажный прямоугольник, состоявший из десятка отрывающихся листков, – заветный абонемент.
…Что только не приходит в голову в такие минуты, как эти? Однажды Колька Тихонов поехал с отцом в Сталинград на рынок продавать разделанного поросенка – это первым номером, а вторым – купить себе кое-что по хозяйству, и услышал от одного парня, чей рот был богато украшен золотыми фиксами, странно прозвучавшую, но очень интересную фразу: «Мерси вас!»
Парень вел себя нагло, посверкивал фиксами, разбойно щурил глаза и, не торгуясь, заплатил за мясо меньше, чем было положено; отец, обычно считающий, что все в жизни должно совершаться по справедливости, честно, почему-то не стал возражать. Взамен получил странное:
– Мерси вас!
Когда парень отошел от телеги, держа в руке кусок свежей поросятины, завернутый в газету, Колька Тихонов проводил его внимательным взглядом и спросил у отца:
– Кто это?
– Местный уркаган.
– Кто-кто?
– Ну, гоп-стопник. Или можно сказать так – блатной. Понял?
Колька все понял: блатной – это человек с ножом; отец потому отпустил гоп-стопника, что боялся нарваться на финку, причем не за себя дрогнул, а за Кольку, за него дрожал и боялся, – присутствие сына при этой сцене было бы совсем нежелательно. Колька и это понял, спросил только:
– Откуда он знает французский язык?
– Он его совсем не знает. А «мерси вас!» – это обычная присказка блатных.
Отец был опытным человеком, знал все или почти все и умел доходчиво объяснять разные сложные штуки.
Когда Тихонов получил киношный абонемент из рук старушки, то ему захотелось сказать «по-французски»: «Мерси вас!» – но он лишь благодарно приожил руку к груди, тем и ограничился. Мог бы, конечно, и козырнуть лихо, припечатать ладонь к козырьку фуражки, но он сделал то, что сделал…
Немцы прекратили стрельбу и залегли, что называется, основательно. После гибели двух человек они замерли, даже шевелиться перестали в траве. Тихонов поскреб пальцами подбородок, жестяно заскрипевший под его рукой. Он давно не брился. Но бриться уже было поздно, да и бритье уже ничего не даст…
В ту поездку в Сталинград на базар Колька Тихонов услышал и другие словечки, ранее не слышанные и показавшиеся ему интересными. Например, «чехты», «ляпаш», «таджмахала», «карак», «гадильник», «яб»…
Сдвинув кепку на нос, Колька заинтересованно ждал, когда отец рассчитается с последними покупателями. Когда он наконец освободился, младший Тихонов почесал ногтями затылок, как расческой, и спросил:
– Батя, скажи, что такое чехты?
– На блатном жаргоне это – конец.
– А гадильник?
– По-моему, милиция – отдел, отделение, околоток, не знаю, как это у них называется, – не знаю… В общем, милиция.
– А яб? – Колька чуть не споткнулся: слишком уж слово походило на матерное, но все же благополучно перевалил через него.
– Ябами зовут барахольщиков, скупающих краденые вещи.
Отец знал все, не было вопроса, на который он не мог бы ответить, и Колька Тихонов был горд им: редко кто из его ровесников имел такого грамотного отца, а точнее, никто не имел – Колькин отец был лучшим.
Старший Тихонов также ушел на фронт, только где он сейчас находился, в каких частях и где конкретно воевал, Тихонов-младший не знал. Дай бог, чтобы отец остался жив, такие люди, как он, не должны погибать…
С немецкой стороны послышалась трель свистка – лейтенант впервые слышал, чтобы фрицы так заливисто свистели, музыканты просто, – то ли сейчас они пойдут в атаку, то ли подождут немного…
Что означали эти трели, догадаться было трудно, надо знать язык свистков: либо минутную готовность к отступлению, либо сигнал к предстоящей атаке, либо еще что-то – например, команду: перед атакой заправиться макаронами с мясом и запить желудевым кофе с молоком.
Под звуки фельдфебельского свистка немцы стихли вновь и дело на этом закончилось. Никогда Тихонов не сталкивался с таким поведением фрицев. А может, это и не немцы были вовсе, а какие-нибудь усташи или албанские погонщики ослов… Хотя усташей вряд ли бы взяли в эсесовскую часть и тем более не взяли бы неграмотных пастухов, пасущих в горах скот…
Масляный, с черными хлопьями дым, длинным шлейфом тянувшийся от подбитого самолета, вскоре отощал, обратился в редкий, хотя и жирный хвост, а потом и совсем иссяк. «Лаптежник» сгорел на удивление быстро.
Тихонов подумал, что немцы чего-то или кого-то ждут – то ли технику какую, способную бороться с засевшими в овраге окруженцами, то ли авиацию, которая уже пыталась им подсобить, но ничего не сумела сделать – вон, один из летунов уже жарится на пламени собственных костей, то ли подмогу основательную из полусотни опытных карателей – фрицы ведь не знали, сколько человек сидит в овраге и держит их на мушке… Если бы знали, вели бы себя не так.
Лейтенант тоже ждал.
Одна из самых мучительных и сложных вещей для человека – это ожидание. Ожидание изматывает так, как не может измотать ничто другое. Хотя кто-то из умных иностранцев сказал очень точно: «Способный терпеть может добиться всего, чего он хочет».
Он был прав, этот старый мудрый философ, терпением при таком раскладе можно добиться больше, чем силой. Главное, чтобы в запасе было хотя бы немного времени.
На немецкой стороне вновь раздался резкий тройной свисток – точнее, три коротких свистка, всколыхнувших теплый воздух и слившихся в один, в то же мгновение часто и дружно ударили автоматы.
Тихонов поспешно нырнул за плотную, словно бы специально утрамбованную закраину, – прикрытие было надежным, – через минуту выглянул… Немцы, не прекращая огня, прижимая автоматы к животам, поднимались из травы.
Было их много, пожалуй, на два десятка больше, чем было раньше.
Лейтенант сбросил предохранитель на затворе винтовки и на ходу поймав мушкой одного из атакующих, тут же выстрелил, выбил дымящуюся гильзу и снова загнал в ствол патрон. Того, как свалился и задергался в траве подстреленный гитлеровец, он не видел, прежняя цель уже находилась вне поля его зрения и уж тем более – вне поля его действий.
Через мгновение он выстрелил опять и подшиб еще одного гитлеровца.
Но и эта потеря не остановила шеренгу немцев, шагавших на лейтенанта. Такое впечатление было, что пока они лежали в траве, пока слушали свистковую музыку, приняли по сто пятьдесят «наркомовских» граммов, не иначе. Или какие граммы выдают в вермахте вместо «наркомовских»? Фюрерские, геббельсовские, гитлеровские?
Выстрелить в третий раз Тихонову не удалось – в плечо ему, отщепив кусок приклада, всадилась автоматная пуля, он замычал глухо, покрутил головой, шалея от боли, в следующий миг справился с собой, передвинул приклад на грудь, прижал покрепче, но тут ему в грудь вонзилась пуля. Пространство перед Тихоновым окрасилось в мутный красный цвет.
Но что было плохо особенно – в этой мути исчезли фигуры надвигающихся на овраг немцев. Лейтенант застонал, уронил голову на закраину. Попробовал пальцами протереть глаза – ничего не получилось, лишь муть сделалась еще гуще, еще неприятнее. Неожиданно перед ним возникло лицо – очень знакомое, бородатое, старое, с насмешливыми и добрыми глазами… Родное лицо. Это был очень близкий ему человек.
Лейтенант узнавал и одновременно не узнавал его. И только, когда старик улыбнулся ему, понял: это же дед Павел, глава их казачьего рода. В жизни Тихонов никогда не видел его, не удалось, дед погиб раньше, чем родился Колька, а вот фотоснимки дедовы на хуторе есть, целых четыре, висят в избе на стенке – на видном месте, в лаковых киотках.
– Нет, не в честь.
Впрочем, однажды он не сдержался, не стал сдерживать себя, отпустил тормоза и сказал интеллигентной старушке, выписывавшей ему абонемент в кинолекторий:
– А вы пойдите от обратного и проанализируйте: может, поэт Тихонов взял это имя в мою честь? Такое может быть?
Старушка согласилась с ним и произнесла очень добродушно:
– А почему бы и нет?
– Вот именно, – не поддержал ее добродушного тона Тихонов, – но на всякий случай мне остается только одно: научиться писать стихи.
Колючесть его старушку не обидела, она вновь добродушно улыбнулась.
– Это тоже может пригодиться в жизни, молодой человек, – проговорила она ровным благожелательным тоном и подчеркнула, словно бы намекая, что Тихонов еще недостаточно пожил на свете, чтобы иметь право на колючие суждения и менторский тон, – м-да, молодой человек! Пожалуйте в мир кино, – она протянула Тихонову узкий бумажный прямоугольник, состоявший из десятка отрывающихся листков, – заветный абонемент.
…Что только не приходит в голову в такие минуты, как эти? Однажды Колька Тихонов поехал с отцом в Сталинград на рынок продавать разделанного поросенка – это первым номером, а вторым – купить себе кое-что по хозяйству, и услышал от одного парня, чей рот был богато украшен золотыми фиксами, странно прозвучавшую, но очень интересную фразу: «Мерси вас!»
Парень вел себя нагло, посверкивал фиксами, разбойно щурил глаза и, не торгуясь, заплатил за мясо меньше, чем было положено; отец, обычно считающий, что все в жизни должно совершаться по справедливости, честно, почему-то не стал возражать. Взамен получил странное:
– Мерси вас!
Когда парень отошел от телеги, держа в руке кусок свежей поросятины, завернутый в газету, Колька Тихонов проводил его внимательным взглядом и спросил у отца:
– Кто это?
– Местный уркаган.
– Кто-кто?
– Ну, гоп-стопник. Или можно сказать так – блатной. Понял?
Колька все понял: блатной – это человек с ножом; отец потому отпустил гоп-стопника, что боялся нарваться на финку, причем не за себя дрогнул, а за Кольку, за него дрожал и боялся, – присутствие сына при этой сцене было бы совсем нежелательно. Колька и это понял, спросил только:
– Откуда он знает французский язык?
– Он его совсем не знает. А «мерси вас!» – это обычная присказка блатных.
Отец был опытным человеком, знал все или почти все и умел доходчиво объяснять разные сложные штуки.
Когда Тихонов получил киношный абонемент из рук старушки, то ему захотелось сказать «по-французски»: «Мерси вас!» – но он лишь благодарно приожил руку к груди, тем и ограничился. Мог бы, конечно, и козырнуть лихо, припечатать ладонь к козырьку фуражки, но он сделал то, что сделал…
Немцы прекратили стрельбу и залегли, что называется, основательно. После гибели двух человек они замерли, даже шевелиться перестали в траве. Тихонов поскреб пальцами подбородок, жестяно заскрипевший под его рукой. Он давно не брился. Но бриться уже было поздно, да и бритье уже ничего не даст…
В ту поездку в Сталинград на базар Колька Тихонов услышал и другие словечки, ранее не слышанные и показавшиеся ему интересными. Например, «чехты», «ляпаш», «таджмахала», «карак», «гадильник», «яб»…
Сдвинув кепку на нос, Колька заинтересованно ждал, когда отец рассчитается с последними покупателями. Когда он наконец освободился, младший Тихонов почесал ногтями затылок, как расческой, и спросил:
– Батя, скажи, что такое чехты?
– На блатном жаргоне это – конец.
– А гадильник?
– По-моему, милиция – отдел, отделение, околоток, не знаю, как это у них называется, – не знаю… В общем, милиция.
– А яб? – Колька чуть не споткнулся: слишком уж слово походило на матерное, но все же благополучно перевалил через него.
– Ябами зовут барахольщиков, скупающих краденые вещи.
Отец знал все, не было вопроса, на который он не мог бы ответить, и Колька Тихонов был горд им: редко кто из его ровесников имел такого грамотного отца, а точнее, никто не имел – Колькин отец был лучшим.
Старший Тихонов также ушел на фронт, только где он сейчас находился, в каких частях и где конкретно воевал, Тихонов-младший не знал. Дай бог, чтобы отец остался жив, такие люди, как он, не должны погибать…
С немецкой стороны послышалась трель свистка – лейтенант впервые слышал, чтобы фрицы так заливисто свистели, музыканты просто, – то ли сейчас они пойдут в атаку, то ли подождут немного…
Что означали эти трели, догадаться было трудно, надо знать язык свистков: либо минутную готовность к отступлению, либо сигнал к предстоящей атаке, либо еще что-то – например, команду: перед атакой заправиться макаронами с мясом и запить желудевым кофе с молоком.
Под звуки фельдфебельского свистка немцы стихли вновь и дело на этом закончилось. Никогда Тихонов не сталкивался с таким поведением фрицев. А может, это и не немцы были вовсе, а какие-нибудь усташи или албанские погонщики ослов… Хотя усташей вряд ли бы взяли в эсесовскую часть и тем более не взяли бы неграмотных пастухов, пасущих в горах скот…
Масляный, с черными хлопьями дым, длинным шлейфом тянувшийся от подбитого самолета, вскоре отощал, обратился в редкий, хотя и жирный хвост, а потом и совсем иссяк. «Лаптежник» сгорел на удивление быстро.
Тихонов подумал, что немцы чего-то или кого-то ждут – то ли технику какую, способную бороться с засевшими в овраге окруженцами, то ли авиацию, которая уже пыталась им подсобить, но ничего не сумела сделать – вон, один из летунов уже жарится на пламени собственных костей, то ли подмогу основательную из полусотни опытных карателей – фрицы ведь не знали, сколько человек сидит в овраге и держит их на мушке… Если бы знали, вели бы себя не так.
Лейтенант тоже ждал.
Одна из самых мучительных и сложных вещей для человека – это ожидание. Ожидание изматывает так, как не может измотать ничто другое. Хотя кто-то из умных иностранцев сказал очень точно: «Способный терпеть может добиться всего, чего он хочет».
Он был прав, этот старый мудрый философ, терпением при таком раскладе можно добиться больше, чем силой. Главное, чтобы в запасе было хотя бы немного времени.
На немецкой стороне вновь раздался резкий тройной свисток – точнее, три коротких свистка, всколыхнувших теплый воздух и слившихся в один, в то же мгновение часто и дружно ударили автоматы.
Тихонов поспешно нырнул за плотную, словно бы специально утрамбованную закраину, – прикрытие было надежным, – через минуту выглянул… Немцы, не прекращая огня, прижимая автоматы к животам, поднимались из травы.
Было их много, пожалуй, на два десятка больше, чем было раньше.
Лейтенант сбросил предохранитель на затворе винтовки и на ходу поймав мушкой одного из атакующих, тут же выстрелил, выбил дымящуюся гильзу и снова загнал в ствол патрон. Того, как свалился и задергался в траве подстреленный гитлеровец, он не видел, прежняя цель уже находилась вне поля его зрения и уж тем более – вне поля его действий.
Через мгновение он выстрелил опять и подшиб еще одного гитлеровца.
Но и эта потеря не остановила шеренгу немцев, шагавших на лейтенанта. Такое впечатление было, что пока они лежали в траве, пока слушали свистковую музыку, приняли по сто пятьдесят «наркомовских» граммов, не иначе. Или какие граммы выдают в вермахте вместо «наркомовских»? Фюрерские, геббельсовские, гитлеровские?
Выстрелить в третий раз Тихонову не удалось – в плечо ему, отщепив кусок приклада, всадилась автоматная пуля, он замычал глухо, покрутил головой, шалея от боли, в следующий миг справился с собой, передвинул приклад на грудь, прижал покрепче, но тут ему в грудь вонзилась пуля. Пространство перед Тихоновым окрасилось в мутный красный цвет.
Но что было плохо особенно – в этой мути исчезли фигуры надвигающихся на овраг немцев. Лейтенант застонал, уронил голову на закраину. Попробовал пальцами протереть глаза – ничего не получилось, лишь муть сделалась еще гуще, еще неприятнее. Неожиданно перед ним возникло лицо – очень знакомое, бородатое, старое, с насмешливыми и добрыми глазами… Родное лицо. Это был очень близкий ему человек.
Лейтенант узнавал и одновременно не узнавал его. И только, когда старик улыбнулся ему, понял: это же дед Павел, глава их казачьего рода. В жизни Тихонов никогда не видел его, не удалось, дед погиб раньше, чем родился Колька, а вот фотоснимки дедовы на хуторе есть, целых четыре, висят в избе на стенке – на видном месте, в лаковых киотках.