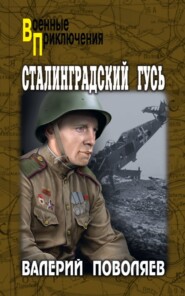По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разбитое зеркало (сборник)
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А какую преграду он может поставить, что сумеет организовать? Соорудить завал из бревен? Накидать до облаков кучу соломы? Подкинуть вверх фуражку и сбить ею «лаптежник»?
Самолетный гул пропал, но тишина длилась недолго – в облаках снова послышался тяжелый надрывный звон – «юнкерсы» возвращались.
Тихонов ощутил, как в глотке у него возникло что-то острекающее, жесткое, машинально потянулся к снайперской винтовке.
Месяца три назад ему встретился один счастливчик-сержант, шофер бензозаправщика, который сбил «лаптежника» из скорострельной винтовки; ему повезло, он выстрелил в фонарь, в расплывающееся в глубине пятно, – это было лицо пилота, – и попал. Пилот проглотил пулю и вместе с самолетом пошел к земле.
Правда, второй немец сжег заправщик сержанта до остова – ничего не осталось. Сам сержант, слава богу, уцелел.
Но счет таким историям очень невелик, они случаются редко. Так редко, что фронтовики в них почти не верят.
«Лаптежники» пикировали на овраг с визгом, будто съезжали с ледяной горы, человека с винтовкой пилоты не видели, он прикрыт зеленым лещинником, сидел под разлапистыми кустами, как туземец в засаде, и ждал.
«Юнкерсы» сбросили по бомбе, обе скатились в овраг и громыхнули внизу, в стороне от лейтенанта, подняв столб рыжей грязи – такой густой, что сделалось темно, взрывы будто навозом залепили небо.
Опрокинувшись на спину, Тихонов успел снизу всадить две пули из снайперской винтовки в «лаптежник», пронесшийся над ним, но тот ничего не почувствовал. Пилот потянул штурвал на себя, и самолет, задрав нос, снова устремился в небо, в серую мгу облачного пространства.
Жаль, что мимо. Тихонов даже сморщился от боли, хотел выстрелить через плечо вдогонку, в хвост «юнкерса», но сдержал себя – выстрел был бы пустым, только патрон сжег бы и все, – застонав, Тихонов перевернулся набок и оперся локтем о покатую земляную полку.
Раз самолеты ушли за облака, значит, будут снова бросать бомбы.
– Сволочи! – просипел Тихонов, поморщился: бинт, перетягивавший раненую ногу, украсился ярким красным пятном.
Выдернул из магазина обойму, добавил в нее два патрона, с силой сдвинув сидящие там заряды большим пальцем правой руки, затем загнал обойму обратно, в ствол также сунул патрон, прижал его бойковой частью затвора. Просипел довольно:
– Теперь – полный порядок, – сипенье его перешло в хрип, – можете налетать!
«Лаптежники» перестроились, взяли немного правее, – а если смотреть с земли, то левее, – шли они низко, были уверены, что нет такой силы, которая могла бы остановить их, – держались, как победители…
Хотя и был лещинник густ – ничего не увидеть, и поросль деревьев, тянувшихся со дна оврага, была плотна, впору разреживать топором и пилой, а свободные прогалы все-таки были.
Неожиданно в таком прогале на фоне недоброго пасмурного неба лейтенант увидел темный бок немецкого самолета, украшенный свежим крестом, прямо над крестом светлел колпак пилота; за стеклом колпака была видна голова в кожаном шлеме.
Тихонов ткнул в сторону этой головы стволом винтовки и в то же мгновение выстрелил, стремительно, как на охоте, перезарядил, – на это он потратил всего несколько мигов, – выстрелил вторично.
«Лаптежник» исчез – промелькнул, как страшная тень, будто и не было его вообще, моторы заревели заполошно, с перегревом, затем раздался громкий треск, к треску прибавился вой, и земля под лейтенантом неожиданно всколыхнулась с такой силой, что он чуть не скатился на дно оврага. Закричал, попытался сдавить крик зубами либо загнать его внутрь, в себя, но это Тихонову не удалось.
Ему показалось, что бомба взорвалась под ним, но в следующую секунду понял: это не бомба, не она взорвалась, а немецкий «лаптежник» всадился в поле, расположенное по ту сторону оврага.
– Хэ-э-э! – восхищенно закричал Тихонов, крик его был похож на клич древних степняков, оборонявших когда-то эти земли, позже земли эти охраняли казаки и клич перекочевал к ним, – лейтенант, кажется, даже забыл о раненой ноге, о доле, которую сам себе определил… – Хэ-э-э!
Насчет доли. В последний раз он обращается в мыслях к этому – больше не будет. Да и возможностей у него для этого не будет. Поступить по-иному он не мог. Если бы он пошел с группой, то мертво сковал бы ее – с раненым группа потеряла бы всякую маневренность и немцы, уже зацепившие надоевших окруженцев, вряд ли бы упустили шанс убрать их всех вообще.
А до Волги так мало осталось идти – всего ничего, максимум – две ночи. Дай бог, чтобы ребята дошли.
– Хэ-э-э! – вновь радостно, горласто закричал Тихонов.
Овраг быстро затянуло дымом. Дым был жирный, пахнул горелым маслом, чем-то еще, химическим, неприятными ватными лохмотьями цеплялся за ветки орешника, прилипал, зеленые листья беспощадно окрашивал в черный асфальтовый цвет, неприятной пленкой обтягивал крутые земляные склоны.
Тихонов стиснул зубы до скрипа, сжал правую руку в кулак, ударил им по воздуху, будто забил гвоздь. На хуторе их, Большом Фоминском, всегда рождались и всегда жили солдаты. Что дед, что отец, что те предки, которые обитали на той земле еще до деда и хорошо знали цену ратному казачьему труду.
Некоторое время он сидел неподвижно, думал, что, может быть, в письмо добавить строки о сбитом «лаптежнике» – пусть порадуются родные, но потом подумал, что не стоит этого делать, может, это вовсе и не он завалил разбойника, может, стрелял кто-то еще, да потом кто знает – вдруг пилот закашлялся или у него заболел живот, либо произошло что-то еще, и тогда получится, что Тихонов припишет себе чужую победу.
Немцы словно бы решили снова наступить на знакомые грабли – неосмотрительно появились на противоположном конце поля, помедлили немного и дружно попадали на землю, прикрылись разными былками и кустиками – решили оглядеться лежа… Тактику свою они не изменили. Было немцев много – не менее взвода.
Серая непроницаемая простынь неба обрела какой-то неряшливый комкастый вид и неожиданно быстро расползлась, кое-где проглянула чистая голубизна. Голубизна не оказалась пустой – на землю пролился теплый солнечный свет, родивший внутри у лейтенанта победное, торжествующее чувство.
Немецкий взвод в полосу света попал целиком – все до единого стали видны, как на ладони. Кое-кто из фрицев даже заерзал неловко, попробовал отползти в тень, но ползти было некуда, тень находилась далеко; лейтенант аккуратно просунул между ветками лещины ствол винтовки, приник к прицелу…
Стрелять, конечно, было не с руки, не очень удобно, но бить по самолету было, например, еще неудобнее, поэтому стрелять нужно было. Главное – выбрать момент. Еще по военному училищу, по киевским полигонам Тихонов помнил, насколько бывает сложна стрельба из снайперской винтовки: если на пути пули, вымахнувшей из ствола, окажется какой-нибудь жалкий листок или тощая травинка, то свинцовая плошка, закованная в латунную оболочку, обязательно изменит свое направление и пройдет мимо цели.
Ругают обычно, конечно, винтовку, а не пулю, и не стрелка, хотя винтовка часто бывает совсем ни при чем.
В прицел Тихонов увидел солдата в каске, украшенной двумя «молниями», что свидетельствовало о принадлежности пришедшей команды к СС, в следующий миг немец, словно бы почувствовав, что его разглядывают в окуляр, поспешно сунул голову в траву.
Трава хоть и росла непокорным ежиком, не гнулась, и роста была невеликого, а голова эсэсовца скрылась в ней целиком. Вместе с каской.
Присмотревшись к этому месту потщательнее, Тихонов стал ждать. Ждал, впрочем, недолго, характер у фрица оказался нетерпеливый, через полминуты он снова вздернул голову над травой, глянул в одну сторону, в другую, ничего интересного не увидел… Лейтенант нажал на спусковой крючок винтовки.
Попал немцу точно в висок, удар пули был сильный, эсэсовцу чуть не оторвало голову, тело приподнялось над землей, из рук, разом ставших бескостными, лишившихся мышц, вылетел автомат, шлепнулся рядом с телом, фриц дернул один раз правой ногой, потом второй раз, тело его пробила мелкая дрожь, и он затих.
Ударило сразу несколько автоматов, застрекотавших, словно швейные машинки, голоса «шмайсеров» слились в один, общий, какой-то клочковатый, рябой, с металлическим отзвоном.
Били немцы вслепую, – почти вслепую, – поскольку винтовка лейтенанта в стрельбе себя никак не обозначила, не было ни одной вспышки, поэтому автоматная пальба никакого вреда Тихонову не принесла.
Перебираясь с одного места на другое, лейтенант задел раненую ногу, боль проколола его насквозь, Тихонов попробовал зажать стон зубами, но не одолел ни стона, ни боли… Эх, были бы какие-нибудь таблетки, которые гасят боль либо вообще снимают ее, – увы, таких таблеток не было. Их вообще не было в Красной Армии, а жаль.
Впрочем, лейтенант верил, что наступит пора, когда они появятся, обязательно появятся, поскольку воюющему человеку без них не обойтись.
Он снова притиснулся к винтовке, глянул в окуляр прицела. Через несколько секунд поймал фуражку. Фуражки во время боевых действий позволялось носить только офицерам. Козырек у эсесовского командира был нахлобучен на самый нос, к козырьку был плотно притиснут корпус бинокля, словно бы офицер этот, как некое внеземное чудовище, вместе с биноклем и родился.
Немец внимательно разглядывал закраину оврага, пытаясь определить, сколько же русских здесь засело.
Зажав зубами дыхание, чтобы цель не выпала из прицела, Тихонов сделал поправку и неспешно, сдерживая себя, нажал пальцем на спусковой крючок.
Звук выстрела был слабым, он из оврага, похоже, и не выплеснулся, а вот отдача приклада была такая, что боль проколола не только плечо, но и раненую ногу.
Фуражка на офицерской голове приподнялась, словно бы у фрица дыбом встали волосы, бинокль выпал из рук, на мгновение Тихонов увидел глаза немца – темные, с белесым налетом, оставленным пространством, с неким беспомощным изумлением, возникшим в зрачках: эсэсовец не верил, что его убили.
В следующий миг глаза исчезли – немец ткнулся физиономией в землю. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от головы, в сухую жесткую траву шлепнулся его бинокль, перевернулся и уперся сильными яркими линзами в небо. Тихонов осторожно, чтобы ни одна былка не отозвалась на движение дрожью, вытащил из широких листьев лещины ствол винтовки, вернулся на старое место, где лежал трофейный автомат, – ему показалось, что точка, с которой он снял офицера, была засечена.
Чутье не обмануло Тихонова, стрельба, которую открыли с той стороны поля, была прицельной, автоматные очереди посшибали с лещины все, что на ней было, вплоть до гнилых рогулин, сделали ветки голыми.
Похоже, день нынешний был урожайным для Тихонова. При всем том лейтенант понимал, что это – последний день его жизни, никаких надежд на будущее нет и никакие иные сюжеты на эту тему уже не родятся. Последний бой есть последний бой.
Главное, чтобы окруженцы ушли как можно дальше, оторвались от эсесовского, – и не только эсесовского, – преследования, уцелели… О себе Тихонов по-прежнему не думал. А чего, собственно, думать-то, – тем более сейчас? Этим он занимался в прошлом, в школьные и курсантские годы – уделял немного свободного времени своей фамилии и собственной персоне.
Раза три, – или даже четыре в его короткой жизни, – кадровики озадачивали странным вопросом: «Родители назвали вас Николаем, случайно, не в честь знаменитого поэта Николая Тихонова?»
Самолетный гул пропал, но тишина длилась недолго – в облаках снова послышался тяжелый надрывный звон – «юнкерсы» возвращались.
Тихонов ощутил, как в глотке у него возникло что-то острекающее, жесткое, машинально потянулся к снайперской винтовке.
Месяца три назад ему встретился один счастливчик-сержант, шофер бензозаправщика, который сбил «лаптежника» из скорострельной винтовки; ему повезло, он выстрелил в фонарь, в расплывающееся в глубине пятно, – это было лицо пилота, – и попал. Пилот проглотил пулю и вместе с самолетом пошел к земле.
Правда, второй немец сжег заправщик сержанта до остова – ничего не осталось. Сам сержант, слава богу, уцелел.
Но счет таким историям очень невелик, они случаются редко. Так редко, что фронтовики в них почти не верят.
«Лаптежники» пикировали на овраг с визгом, будто съезжали с ледяной горы, человека с винтовкой пилоты не видели, он прикрыт зеленым лещинником, сидел под разлапистыми кустами, как туземец в засаде, и ждал.
«Юнкерсы» сбросили по бомбе, обе скатились в овраг и громыхнули внизу, в стороне от лейтенанта, подняв столб рыжей грязи – такой густой, что сделалось темно, взрывы будто навозом залепили небо.
Опрокинувшись на спину, Тихонов успел снизу всадить две пули из снайперской винтовки в «лаптежник», пронесшийся над ним, но тот ничего не почувствовал. Пилот потянул штурвал на себя, и самолет, задрав нос, снова устремился в небо, в серую мгу облачного пространства.
Жаль, что мимо. Тихонов даже сморщился от боли, хотел выстрелить через плечо вдогонку, в хвост «юнкерса», но сдержал себя – выстрел был бы пустым, только патрон сжег бы и все, – застонав, Тихонов перевернулся набок и оперся локтем о покатую земляную полку.
Раз самолеты ушли за облака, значит, будут снова бросать бомбы.
– Сволочи! – просипел Тихонов, поморщился: бинт, перетягивавший раненую ногу, украсился ярким красным пятном.
Выдернул из магазина обойму, добавил в нее два патрона, с силой сдвинув сидящие там заряды большим пальцем правой руки, затем загнал обойму обратно, в ствол также сунул патрон, прижал его бойковой частью затвора. Просипел довольно:
– Теперь – полный порядок, – сипенье его перешло в хрип, – можете налетать!
«Лаптежники» перестроились, взяли немного правее, – а если смотреть с земли, то левее, – шли они низко, были уверены, что нет такой силы, которая могла бы остановить их, – держались, как победители…
Хотя и был лещинник густ – ничего не увидеть, и поросль деревьев, тянувшихся со дна оврага, была плотна, впору разреживать топором и пилой, а свободные прогалы все-таки были.
Неожиданно в таком прогале на фоне недоброго пасмурного неба лейтенант увидел темный бок немецкого самолета, украшенный свежим крестом, прямо над крестом светлел колпак пилота; за стеклом колпака была видна голова в кожаном шлеме.
Тихонов ткнул в сторону этой головы стволом винтовки и в то же мгновение выстрелил, стремительно, как на охоте, перезарядил, – на это он потратил всего несколько мигов, – выстрелил вторично.
«Лаптежник» исчез – промелькнул, как страшная тень, будто и не было его вообще, моторы заревели заполошно, с перегревом, затем раздался громкий треск, к треску прибавился вой, и земля под лейтенантом неожиданно всколыхнулась с такой силой, что он чуть не скатился на дно оврага. Закричал, попытался сдавить крик зубами либо загнать его внутрь, в себя, но это Тихонову не удалось.
Ему показалось, что бомба взорвалась под ним, но в следующую секунду понял: это не бомба, не она взорвалась, а немецкий «лаптежник» всадился в поле, расположенное по ту сторону оврага.
– Хэ-э-э! – восхищенно закричал Тихонов, крик его был похож на клич древних степняков, оборонявших когда-то эти земли, позже земли эти охраняли казаки и клич перекочевал к ним, – лейтенант, кажется, даже забыл о раненой ноге, о доле, которую сам себе определил… – Хэ-э-э!
Насчет доли. В последний раз он обращается в мыслях к этому – больше не будет. Да и возможностей у него для этого не будет. Поступить по-иному он не мог. Если бы он пошел с группой, то мертво сковал бы ее – с раненым группа потеряла бы всякую маневренность и немцы, уже зацепившие надоевших окруженцев, вряд ли бы упустили шанс убрать их всех вообще.
А до Волги так мало осталось идти – всего ничего, максимум – две ночи. Дай бог, чтобы ребята дошли.
– Хэ-э-э! – вновь радостно, горласто закричал Тихонов.
Овраг быстро затянуло дымом. Дым был жирный, пахнул горелым маслом, чем-то еще, химическим, неприятными ватными лохмотьями цеплялся за ветки орешника, прилипал, зеленые листья беспощадно окрашивал в черный асфальтовый цвет, неприятной пленкой обтягивал крутые земляные склоны.
Тихонов стиснул зубы до скрипа, сжал правую руку в кулак, ударил им по воздуху, будто забил гвоздь. На хуторе их, Большом Фоминском, всегда рождались и всегда жили солдаты. Что дед, что отец, что те предки, которые обитали на той земле еще до деда и хорошо знали цену ратному казачьему труду.
Некоторое время он сидел неподвижно, думал, что, может быть, в письмо добавить строки о сбитом «лаптежнике» – пусть порадуются родные, но потом подумал, что не стоит этого делать, может, это вовсе и не он завалил разбойника, может, стрелял кто-то еще, да потом кто знает – вдруг пилот закашлялся или у него заболел живот, либо произошло что-то еще, и тогда получится, что Тихонов припишет себе чужую победу.
Немцы словно бы решили снова наступить на знакомые грабли – неосмотрительно появились на противоположном конце поля, помедлили немного и дружно попадали на землю, прикрылись разными былками и кустиками – решили оглядеться лежа… Тактику свою они не изменили. Было немцев много – не менее взвода.
Серая непроницаемая простынь неба обрела какой-то неряшливый комкастый вид и неожиданно быстро расползлась, кое-где проглянула чистая голубизна. Голубизна не оказалась пустой – на землю пролился теплый солнечный свет, родивший внутри у лейтенанта победное, торжествующее чувство.
Немецкий взвод в полосу света попал целиком – все до единого стали видны, как на ладони. Кое-кто из фрицев даже заерзал неловко, попробовал отползти в тень, но ползти было некуда, тень находилась далеко; лейтенант аккуратно просунул между ветками лещины ствол винтовки, приник к прицелу…
Стрелять, конечно, было не с руки, не очень удобно, но бить по самолету было, например, еще неудобнее, поэтому стрелять нужно было. Главное – выбрать момент. Еще по военному училищу, по киевским полигонам Тихонов помнил, насколько бывает сложна стрельба из снайперской винтовки: если на пути пули, вымахнувшей из ствола, окажется какой-нибудь жалкий листок или тощая травинка, то свинцовая плошка, закованная в латунную оболочку, обязательно изменит свое направление и пройдет мимо цели.
Ругают обычно, конечно, винтовку, а не пулю, и не стрелка, хотя винтовка часто бывает совсем ни при чем.
В прицел Тихонов увидел солдата в каске, украшенной двумя «молниями», что свидетельствовало о принадлежности пришедшей команды к СС, в следующий миг немец, словно бы почувствовав, что его разглядывают в окуляр, поспешно сунул голову в траву.
Трава хоть и росла непокорным ежиком, не гнулась, и роста была невеликого, а голова эсэсовца скрылась в ней целиком. Вместе с каской.
Присмотревшись к этому месту потщательнее, Тихонов стал ждать. Ждал, впрочем, недолго, характер у фрица оказался нетерпеливый, через полминуты он снова вздернул голову над травой, глянул в одну сторону, в другую, ничего интересного не увидел… Лейтенант нажал на спусковой крючок винтовки.
Попал немцу точно в висок, удар пули был сильный, эсэсовцу чуть не оторвало голову, тело приподнялось над землей, из рук, разом ставших бескостными, лишившихся мышц, вылетел автомат, шлепнулся рядом с телом, фриц дернул один раз правой ногой, потом второй раз, тело его пробила мелкая дрожь, и он затих.
Ударило сразу несколько автоматов, застрекотавших, словно швейные машинки, голоса «шмайсеров» слились в один, общий, какой-то клочковатый, рябой, с металлическим отзвоном.
Били немцы вслепую, – почти вслепую, – поскольку винтовка лейтенанта в стрельбе себя никак не обозначила, не было ни одной вспышки, поэтому автоматная пальба никакого вреда Тихонову не принесла.
Перебираясь с одного места на другое, лейтенант задел раненую ногу, боль проколола его насквозь, Тихонов попробовал зажать стон зубами, но не одолел ни стона, ни боли… Эх, были бы какие-нибудь таблетки, которые гасят боль либо вообще снимают ее, – увы, таких таблеток не было. Их вообще не было в Красной Армии, а жаль.
Впрочем, лейтенант верил, что наступит пора, когда они появятся, обязательно появятся, поскольку воюющему человеку без них не обойтись.
Он снова притиснулся к винтовке, глянул в окуляр прицела. Через несколько секунд поймал фуражку. Фуражки во время боевых действий позволялось носить только офицерам. Козырек у эсесовского командира был нахлобучен на самый нос, к козырьку был плотно притиснут корпус бинокля, словно бы офицер этот, как некое внеземное чудовище, вместе с биноклем и родился.
Немец внимательно разглядывал закраину оврага, пытаясь определить, сколько же русских здесь засело.
Зажав зубами дыхание, чтобы цель не выпала из прицела, Тихонов сделал поправку и неспешно, сдерживая себя, нажал пальцем на спусковой крючок.
Звук выстрела был слабым, он из оврага, похоже, и не выплеснулся, а вот отдача приклада была такая, что боль проколола не только плечо, но и раненую ногу.
Фуражка на офицерской голове приподнялась, словно бы у фрица дыбом встали волосы, бинокль выпал из рук, на мгновение Тихонов увидел глаза немца – темные, с белесым налетом, оставленным пространством, с неким беспомощным изумлением, возникшим в зрачках: эсэсовец не верил, что его убили.
В следующий миг глаза исчезли – немец ткнулся физиономией в землю. Совсем рядом, в нескольких сантиметрах от головы, в сухую жесткую траву шлепнулся его бинокль, перевернулся и уперся сильными яркими линзами в небо. Тихонов осторожно, чтобы ни одна былка не отозвалась на движение дрожью, вытащил из широких листьев лещины ствол винтовки, вернулся на старое место, где лежал трофейный автомат, – ему показалось, что точка, с которой он снял офицера, была засечена.
Чутье не обмануло Тихонова, стрельба, которую открыли с той стороны поля, была прицельной, автоматные очереди посшибали с лещины все, что на ней было, вплоть до гнилых рогулин, сделали ветки голыми.
Похоже, день нынешний был урожайным для Тихонова. При всем том лейтенант понимал, что это – последний день его жизни, никаких надежд на будущее нет и никакие иные сюжеты на эту тему уже не родятся. Последний бой есть последний бой.
Главное, чтобы окруженцы ушли как можно дальше, оторвались от эсесовского, – и не только эсесовского, – преследования, уцелели… О себе Тихонов по-прежнему не думал. А чего, собственно, думать-то, – тем более сейчас? Этим он занимался в прошлом, в школьные и курсантские годы – уделял немного свободного времени своей фамилии и собственной персоне.
Раза три, – или даже четыре в его короткой жизни, – кадровики озадачивали странным вопросом: «Родители назвали вас Николаем, случайно, не в честь знаменитого поэта Николая Тихонова?»