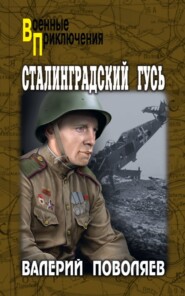По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разбитое зеркало (сборник)
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рана была не тяжелая, но плохая – пуля застряла в бедре, входное отверстие сочилось кровью, – видимо, внутри была перебита одна из артерий, надо бы попробовать посильнее перетянуть ее, но, с другой стороны, это может и не сработать.
Лицо у лейтенанта было серое, осунувшееся, под скулами – провалы, щеки втянулись внутрь; лейтенант вообще стал похож на узника какой-нибудь суровой крепости, долго не видевшего света. Тихонов вновь закрыл глаза, на несколько мгновений отключился, пришел в себя от того, что сержант стоял перед ним в воронке и примерял к ноге завернутые в восковку стираные бинты.
– Товарищ лейтенант, перебинтуемся и – уходим отсюда… Пора!
– Пора, – согласился с ним Тихонов, не раскрывая глаз.
– Я тут три листка подорожника нашел, обмыл их малость из фляжки – приложим к ноге. Подорожник помогает очень.
– Как ваше имя, сержант?
– С вечера звали Костей.
– Ну раз вечером звали Костей, то и утром зовут точно так же. – Лейтенант опять едва приметно усмехнулся. Глаз он не открывал.
Для того чтобы отделить от раны ткань, пришлось немецким штыком разрезать штанину, несколько пропитанных кровью лохмотьев выбросить; Стренадько боялся, что лейтенант будет кричать, но тот не проронил ни звука – все звуки застряли у него в стиснутых зубах. Самое лучшее, конечно, попытаться вытащить пулю, но операцию эту не выдержат ни Тихонов, ни сам сержант, да и вообще никто из оставшихся в живых в их группе.
Белесый туман, растекшийся над землей, неожиданно наполнился свежей розовиной, неподалеку начала драться стая проснувшихся ворон – наверное, нашла разлагающееся тело, распробовала его и теперь делила на лакомые куски.
Наступало утро – типично летнее, настоящее приволжское утро, которое, несмотря на начавшийся по календарю осенний месяц, высветилось самыми настоящими летними красками.
Где-то недалеко, прямо по равнине, не разбирая дороги, круша подворачивающиеся по пути хаты, сминая сады и риги, шла очередная гитлеровская колонна. Колонну не было видно, даже пыли, вылетающей из-под траков, не было видно, но затяжной гул, вызывающий свербение на зубах, был слышен хорошо. Далеко слышен.
– Неужели фрицы все-таки блокируют Волгу? Вот так возьмут и перережут? – спросил неверяще Стренадько, уголки губ у него задергались мелко, болезненно, и он, не дожидаясь ответа, отрицательно помотал головой.
Тихонов открыл глаза и теперь смотрел на усталое, с печальными складками морщин лицо сержанта; хотя Стренадько был еще молод и подвижен, как пионер, лицо его было старым, – сдавало лицо, и глаза сдавали – это были глаза пожилого человека.
– Я в мае ездил на Волгу получать две полуторки, их доставили на барже, видел реку, – уже тогда было понятно, что Волге очень трудно, но будет еще труднее… Баржи-нефтянки по ней уже не ходили, горючку из низовий, из Азербайджана перевозили в бочках. Наполняли бочки бензином, нефтью и волокли на буксирах наверх. Немцы налетали, поджигали бочки с воздуха, но все равно горючее удавалось доставлять. Треть бочек или даже половина, допустим, сгорала, но вот вторую половину, – если, конечно, катер оставался цел, – он доволакивал до пункта приема… Война ныне, товарищ лейтенант, пахнет нефтью и… смертью. – Стренадько умолк, с шумом затянулся воздухом, потом выдохнул и добавил на манер представителя северных народов: – Однако есть хочется.
С продуктами было плохо. Как, собственно, и с людьми. Число тех, кто шел с Тихоновым, все уменьшалось и уменьшалось. Единственная еда, которая у них имелась в достатке, – брючные ремни, точнее – дырки в них… Подтянул ремень на пару дырок – считай, очень неплохо позавтракал.
Вороны, облюбовавшие себе место неподалеку от людей, продолжали отчаянно драться и горланить, иногда их карканье становилось таким громким, что не было слышно человеческого голоса.
– Вот гадины хвостатые, – не вытерпел зенитчик Фомичев, обычно старающийся больше молчать, чем говорить, а тут его прорвало.
– Мы уже уходим, – проговорил Стренадько, – через несколько минут. Сейчас вот закончу перевязку…
На востоке, где-то вблизи Волги, километрах в пятнадцати-восемнадцати отсюда что-то громыхнуло очень сильно, будто взорвался склад с толом и боеприпасами, вороны мигом стихли, будто подавились – то ли перетрухнули пернатые, то ли у них произошло прободение карканья… А может, немцы разбомбили переправу – всякое могло быть. Тихонов ощутил, как у него само по себе напряглось лицо, желваки сделались каменными.
В воронку неожиданно свалился Побежимов, младший лейтенант, гимнастерка у него была испачкана по самые плечи землей.
– Чего так? – молча, одними глазами спросил Тихонов.
– Да мотоциклетный патруль немецкий объявился. – Побежимов попытался стряхнуть грязь с гимнастерки и брюк, но не тут-то было, жирная влажная земля прилипла к ткани сильнее солидола – не отскрести. – Как с неба свалился. Пришлось там, где стоял, упасть.
Побежимов ходил в разведку – окруженцам не хотелось угодить еще в одну засаду.
– Ну, чего там? – спросил Тихонов. – Не то мы от воплей ворон уже оглохли.
– В километре отсюда – овраг. Извилистый. Хороший овраг, лесистый. Укрыться есть где.
– Но он точно так же, как и нас, будет привлекать и фрицев. Для нас он интересен тем, что есть, где спрятаться, для немчуры тем, что можно отыскать нас и переломить хребет, чтобы не мешали их новому блицкригу.
Тихонов хоть и говорил сейчас много, но говорить ему становилось все труднее, словно бы во рту что-то приклеивалось к языку и зубам, дышать также делалось труднее.
Но подавать вида, что тяжело, было нельзя, поэтому лейтенант не только говорил, но и даже улыбался – специально показывал, что с ним все в порядке.
– Что будем делать, товарищ лейтенант? – спросил Стренадько, словно бы не знал, как поступать дальше.
– Что делать, что делать? Перебираться в облюбованный овраг, сержант.
С тугими бинтами, перетянувшими ногу и закрывшими рану, было все-таки легче, чем с открытым, постоянно сочащимся пулевым отверстием.
Через несколько минут группа поднялась. Несмотря на ночь и засаду, на которую наткнулись час назад, никого не потеряли, – кроме погибших, естественно, пусть земля будет им пухом, – люди понимали, что держаться надо вместе, только так они смогут уцелеть и выйти к своим. Вспугнули стаю ворон, расковырявших крепкими лапами груду валежника. Под грудой лежал, догнивая, превратившись в мокрую плесневелую кучку, труп в черной немецкой форме.
– Эсэсовец! – сиплым ненавидящим голосом отметил Стренадько. – Откуда он тут взялся?
– Это не эсэсовец, – поправил его негромко и одышливо Тихонов, – танкист.
– Но у него же черная форма.
– Ну и что? У танкистов тоже черная форма – это раз и есть еще два – когда эсэсовцы выезжают на фронт, то черную форму оставляют у себя в Берлине в шкафу с парадной одеждой, на передовой они, как и все, ходят в форме мышиного цвета.
– Видать, остановил свой танк, чтобы поссать, отошел чуть в сторону – постеснялся, что брызги попадут на гусеницы и… результат налицо.
С одной стороны лейтенанта подпирал Фомичев, с другой – такой же длинный, с литыми плечами боксер из Ростова Великого по фамилии Брызгалов. В своей жизни Брызгалов участвовал в самых разных боях – уличных, базарных, дворовых, на ринге и танцплощадке, на золотом песке родного озера и лесных полянах, когда ходил за грибами; против него выступали соперники также разные, среди них были и чемпионы района, и рыночные барыги, и пацаны с соседних улиц, в результате в шестнадцать лет ему свернули набок нос, свернули так круто, что кончик его бравого шнобеля смотрел едва ли не на плечо… Кто это сделал, Брызгалов уже и не помнил.
Ну а в остальном был он солдат, как солдат, в меру ленивый, в меру инициативный – ничем не выделялся из общей массы, словом, хотя и был боксером. Лейтенант, подчиняясь шагу людей, которые волокли его, сипя и морщась, неловко скакал на одной ноге, будто подбитый грач.
Вонь около разлагающегося танкиста стаяла такая, что все вороны в округе должны были как минимум передохнуть, но они, странное дело, были не только живы, но и веселы.
Тухлой мертвечиной не стало пахнуть далеко отсюда, когда они достигли края оврага и, перевалив через кромку, ушли по черной крутой боковине вниз, к жидкой струйке воды, плоско стелющейся по глиняному дну.
В таких местах, как это, – приволжских, где и степью может пахнуть, и жидким, насквозь просвечивающим леском, и буераками, подле которых любят селиться суслики, а на сломах растет душистая мята, – лучше всего прятаться окруженцам, пробирающимся к своим… Прав Побежимов. Лучшего места для схоронки, чем заросший овраг, не найти до самой Волги. И за Волгой – тоже.
Они прошли по оврагу около километра, несмотря на то что Тихонову было тяжело, бинт, намотанный на ногу, набух кровью, оставлял след – на траве, на голых куртинах земли, на мяте поблескивали капли крови, похожие на костянику, рубиново-слепящую, дорого посверкивавшую в солнечном свете ягоду.
– Привал! – скомандовал Тихонов хриплым дырявым голосом прямо в ухо Стренадько, сменившему Брызгалова. – Стоп, машина!
– Может, еще чуть пройдем?
– Здесь место хорошее. Наверху, по краю оврага очень удобная полка проложена… Видишь?
Стренадько кивнул и, кряхтя, аккуратно поддерживая лейтенанта за ремень, на котором болталась кобура с «ТТ», опустил на землю, Фомичев помог. Лейтенант устало откинулся на спину, вздохнул, словно удачно облегчился.
Впрочем, следом последовал еще один вздох, озабоченный и в ту же пору жесткий: Тихонов понимал, что подбитый, с дырявой ногой он до Волги никак не дотелепает. У него сил, чтобы бороться с болью, просто-напросто не хватит.
Сержант, кряхтя, будто старик, помял себе пальцами спину и пристроился на земле рядом с Тихоновым, затем хлопнул обезвоженным ртом и так же отвалился на спину.
Лицо у лейтенанта было серое, осунувшееся, под скулами – провалы, щеки втянулись внутрь; лейтенант вообще стал похож на узника какой-нибудь суровой крепости, долго не видевшего света. Тихонов вновь закрыл глаза, на несколько мгновений отключился, пришел в себя от того, что сержант стоял перед ним в воронке и примерял к ноге завернутые в восковку стираные бинты.
– Товарищ лейтенант, перебинтуемся и – уходим отсюда… Пора!
– Пора, – согласился с ним Тихонов, не раскрывая глаз.
– Я тут три листка подорожника нашел, обмыл их малость из фляжки – приложим к ноге. Подорожник помогает очень.
– Как ваше имя, сержант?
– С вечера звали Костей.
– Ну раз вечером звали Костей, то и утром зовут точно так же. – Лейтенант опять едва приметно усмехнулся. Глаз он не открывал.
Для того чтобы отделить от раны ткань, пришлось немецким штыком разрезать штанину, несколько пропитанных кровью лохмотьев выбросить; Стренадько боялся, что лейтенант будет кричать, но тот не проронил ни звука – все звуки застряли у него в стиснутых зубах. Самое лучшее, конечно, попытаться вытащить пулю, но операцию эту не выдержат ни Тихонов, ни сам сержант, да и вообще никто из оставшихся в живых в их группе.
Белесый туман, растекшийся над землей, неожиданно наполнился свежей розовиной, неподалеку начала драться стая проснувшихся ворон – наверное, нашла разлагающееся тело, распробовала его и теперь делила на лакомые куски.
Наступало утро – типично летнее, настоящее приволжское утро, которое, несмотря на начавшийся по календарю осенний месяц, высветилось самыми настоящими летними красками.
Где-то недалеко, прямо по равнине, не разбирая дороги, круша подворачивающиеся по пути хаты, сминая сады и риги, шла очередная гитлеровская колонна. Колонну не было видно, даже пыли, вылетающей из-под траков, не было видно, но затяжной гул, вызывающий свербение на зубах, был слышен хорошо. Далеко слышен.
– Неужели фрицы все-таки блокируют Волгу? Вот так возьмут и перережут? – спросил неверяще Стренадько, уголки губ у него задергались мелко, болезненно, и он, не дожидаясь ответа, отрицательно помотал головой.
Тихонов открыл глаза и теперь смотрел на усталое, с печальными складками морщин лицо сержанта; хотя Стренадько был еще молод и подвижен, как пионер, лицо его было старым, – сдавало лицо, и глаза сдавали – это были глаза пожилого человека.
– Я в мае ездил на Волгу получать две полуторки, их доставили на барже, видел реку, – уже тогда было понятно, что Волге очень трудно, но будет еще труднее… Баржи-нефтянки по ней уже не ходили, горючку из низовий, из Азербайджана перевозили в бочках. Наполняли бочки бензином, нефтью и волокли на буксирах наверх. Немцы налетали, поджигали бочки с воздуха, но все равно горючее удавалось доставлять. Треть бочек или даже половина, допустим, сгорала, но вот вторую половину, – если, конечно, катер оставался цел, – он доволакивал до пункта приема… Война ныне, товарищ лейтенант, пахнет нефтью и… смертью. – Стренадько умолк, с шумом затянулся воздухом, потом выдохнул и добавил на манер представителя северных народов: – Однако есть хочется.
С продуктами было плохо. Как, собственно, и с людьми. Число тех, кто шел с Тихоновым, все уменьшалось и уменьшалось. Единственная еда, которая у них имелась в достатке, – брючные ремни, точнее – дырки в них… Подтянул ремень на пару дырок – считай, очень неплохо позавтракал.
Вороны, облюбовавшие себе место неподалеку от людей, продолжали отчаянно драться и горланить, иногда их карканье становилось таким громким, что не было слышно человеческого голоса.
– Вот гадины хвостатые, – не вытерпел зенитчик Фомичев, обычно старающийся больше молчать, чем говорить, а тут его прорвало.
– Мы уже уходим, – проговорил Стренадько, – через несколько минут. Сейчас вот закончу перевязку…
На востоке, где-то вблизи Волги, километрах в пятнадцати-восемнадцати отсюда что-то громыхнуло очень сильно, будто взорвался склад с толом и боеприпасами, вороны мигом стихли, будто подавились – то ли перетрухнули пернатые, то ли у них произошло прободение карканья… А может, немцы разбомбили переправу – всякое могло быть. Тихонов ощутил, как у него само по себе напряглось лицо, желваки сделались каменными.
В воронку неожиданно свалился Побежимов, младший лейтенант, гимнастерка у него была испачкана по самые плечи землей.
– Чего так? – молча, одними глазами спросил Тихонов.
– Да мотоциклетный патруль немецкий объявился. – Побежимов попытался стряхнуть грязь с гимнастерки и брюк, но не тут-то было, жирная влажная земля прилипла к ткани сильнее солидола – не отскрести. – Как с неба свалился. Пришлось там, где стоял, упасть.
Побежимов ходил в разведку – окруженцам не хотелось угодить еще в одну засаду.
– Ну, чего там? – спросил Тихонов. – Не то мы от воплей ворон уже оглохли.
– В километре отсюда – овраг. Извилистый. Хороший овраг, лесистый. Укрыться есть где.
– Но он точно так же, как и нас, будет привлекать и фрицев. Для нас он интересен тем, что есть, где спрятаться, для немчуры тем, что можно отыскать нас и переломить хребет, чтобы не мешали их новому блицкригу.
Тихонов хоть и говорил сейчас много, но говорить ему становилось все труднее, словно бы во рту что-то приклеивалось к языку и зубам, дышать также делалось труднее.
Но подавать вида, что тяжело, было нельзя, поэтому лейтенант не только говорил, но и даже улыбался – специально показывал, что с ним все в порядке.
– Что будем делать, товарищ лейтенант? – спросил Стренадько, словно бы не знал, как поступать дальше.
– Что делать, что делать? Перебираться в облюбованный овраг, сержант.
С тугими бинтами, перетянувшими ногу и закрывшими рану, было все-таки легче, чем с открытым, постоянно сочащимся пулевым отверстием.
Через несколько минут группа поднялась. Несмотря на ночь и засаду, на которую наткнулись час назад, никого не потеряли, – кроме погибших, естественно, пусть земля будет им пухом, – люди понимали, что держаться надо вместе, только так они смогут уцелеть и выйти к своим. Вспугнули стаю ворон, расковырявших крепкими лапами груду валежника. Под грудой лежал, догнивая, превратившись в мокрую плесневелую кучку, труп в черной немецкой форме.
– Эсэсовец! – сиплым ненавидящим голосом отметил Стренадько. – Откуда он тут взялся?
– Это не эсэсовец, – поправил его негромко и одышливо Тихонов, – танкист.
– Но у него же черная форма.
– Ну и что? У танкистов тоже черная форма – это раз и есть еще два – когда эсэсовцы выезжают на фронт, то черную форму оставляют у себя в Берлине в шкафу с парадной одеждой, на передовой они, как и все, ходят в форме мышиного цвета.
– Видать, остановил свой танк, чтобы поссать, отошел чуть в сторону – постеснялся, что брызги попадут на гусеницы и… результат налицо.
С одной стороны лейтенанта подпирал Фомичев, с другой – такой же длинный, с литыми плечами боксер из Ростова Великого по фамилии Брызгалов. В своей жизни Брызгалов участвовал в самых разных боях – уличных, базарных, дворовых, на ринге и танцплощадке, на золотом песке родного озера и лесных полянах, когда ходил за грибами; против него выступали соперники также разные, среди них были и чемпионы района, и рыночные барыги, и пацаны с соседних улиц, в результате в шестнадцать лет ему свернули набок нос, свернули так круто, что кончик его бравого шнобеля смотрел едва ли не на плечо… Кто это сделал, Брызгалов уже и не помнил.
Ну а в остальном был он солдат, как солдат, в меру ленивый, в меру инициативный – ничем не выделялся из общей массы, словом, хотя и был боксером. Лейтенант, подчиняясь шагу людей, которые волокли его, сипя и морщась, неловко скакал на одной ноге, будто подбитый грач.
Вонь около разлагающегося танкиста стаяла такая, что все вороны в округе должны были как минимум передохнуть, но они, странное дело, были не только живы, но и веселы.
Тухлой мертвечиной не стало пахнуть далеко отсюда, когда они достигли края оврага и, перевалив через кромку, ушли по черной крутой боковине вниз, к жидкой струйке воды, плоско стелющейся по глиняному дну.
В таких местах, как это, – приволжских, где и степью может пахнуть, и жидким, насквозь просвечивающим леском, и буераками, подле которых любят селиться суслики, а на сломах растет душистая мята, – лучше всего прятаться окруженцам, пробирающимся к своим… Прав Побежимов. Лучшего места для схоронки, чем заросший овраг, не найти до самой Волги. И за Волгой – тоже.
Они прошли по оврагу около километра, несмотря на то что Тихонову было тяжело, бинт, намотанный на ногу, набух кровью, оставлял след – на траве, на голых куртинах земли, на мяте поблескивали капли крови, похожие на костянику, рубиново-слепящую, дорого посверкивавшую в солнечном свете ягоду.
– Привал! – скомандовал Тихонов хриплым дырявым голосом прямо в ухо Стренадько, сменившему Брызгалова. – Стоп, машина!
– Может, еще чуть пройдем?
– Здесь место хорошее. Наверху, по краю оврага очень удобная полка проложена… Видишь?
Стренадько кивнул и, кряхтя, аккуратно поддерживая лейтенанта за ремень, на котором болталась кобура с «ТТ», опустил на землю, Фомичев помог. Лейтенант устало откинулся на спину, вздохнул, словно удачно облегчился.
Впрочем, следом последовал еще один вздох, озабоченный и в ту же пору жесткий: Тихонов понимал, что подбитый, с дырявой ногой он до Волги никак не дотелепает. У него сил, чтобы бороться с болью, просто-напросто не хватит.
Сержант, кряхтя, будто старик, помял себе пальцами спину и пристроился на земле рядом с Тихоновым, затем хлопнул обезвоженным ртом и так же отвалился на спину.