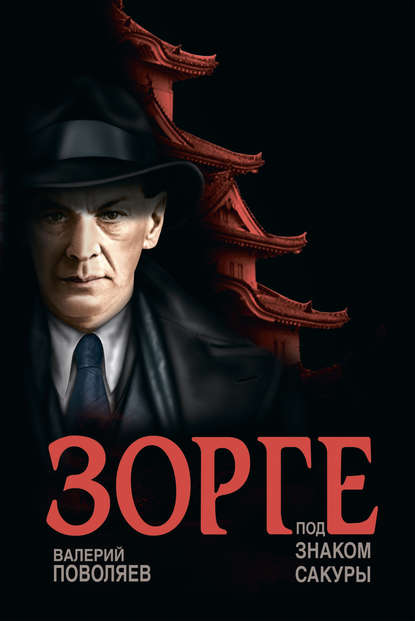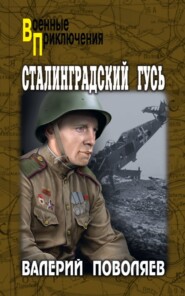По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Зорге. Под знаком сакуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иногда ко мне приходят твои письма, но я никак не могу понять, откуда они отправлены.
– И не нужно понимать, Катюш. Это работа.
– Ах, Ика…
– Планы наши, значит, такие. Завтра утром я должен буду явиться на доклад начальству, затем мне понадобится пара дней для составления отчета. А потом… потом я оформлю отпуск, и мы…
– И мы поедем отдыхать, – обрадованно вскричала Катя. – На юг!
– Точно!
– Ой! – Катя кинулась Рихарду на шею, поцеловала мужа в щеку, прижалась к нему – в ней что-то зашлось, остановилось, даже дыхание начало осекаться, будто у девчонки, которой предложил руку принц. Наверное, именно в эту минуту Катя Максимова была счастлива, как никогда – слишком много всего свалилось на нее, и все – хорошее.
Утром Зорге пешком двинулся в Разведуправление, благо Знаменка, где располагался «шоколадный домик» (здание управления было выкрашено во «вкусный» шоколадный цвет), располагалась совсем недалеко от Нижне-Кисловского переулка: минут пятнадцать неторопливой размеренной ходьбы, и Зорге оказывался у дверей управления.
На улице было шумно, народу, кажется, стало еще больше, чем в прошлый его приезд в Москву, дышалось же легко.
Воздух был свежим, сухим, потому и дышалось легко – в Шанхае, в Токио воздух, например, был совсем иным.
Трещали своими назойливыми электрическими звонками трамваи. Отживающий вид транспорта. Вот троллейбус – совсем другое дело. Впрочем, Зорге прочитал в газетах, что Москва уже начала примеряться и к троллейбусу – по Ленинградскому проспекту пустили два чудища, которые народ прозвал «усатыми автобусами» и «рогатыми вагонами», – это были троллейбусы. Получили чудища заводское обозначение «ЛК», что означало «Лазарь Каганович». Народ садился в «ЛК» охотно, сравнивал с трамваями и автобусами. Ну, трамвай ни в какое сравнение не шел, не выдерживал критики, а вот автобус… Одни говорили, что автобус лучше, другие высказывались в пользу «электрического рогоносца».
Рихарду, конечно, больше нравился троллейбус – он и шел плавнее, тише, без автомобильного грохота, и вони от него было меньше – электричество, как известно, не имеет запаха, а главное, в троллейбусе Зорге ощущал себя спокойнее и уютнее… Но, как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево.
Что еще? Народ московский одевался, конечно, хуже, чем заграничный – и тут уж ничего не попишешь: Мосшвейпром пока пасует перед парижскими модельными фирмами, перед берлинскими тоже, но наступит момент, и в этом Зорге был уверен твердо, когда москвичи по части одежного форса обгонят и парижан, и берлинцев.
А на Ленинградском проспекте надо побывать обязательно, – специально даже, – чтобы проехаться на московском троллейбусе и сравнить его, скажем, с берлинским: чьи колеса возьмут верх? Зорге невольно рассмеялся – а было бы здорово, если б московский троллейбус оказался лучше берлинского.
Он, как ребенок, потерся носом о плечо: грудь распирало восторженное чувство, ему нравилось нынешнее утро, нравилась жизнь, он провел роскошную ночь, руки его помнили нежность Катиной кожи, губы его – ее губы. Как, оказывается, мало надо человеку для того, чтобы он был счастлив, совсем мало.
Какой-то очкастый гражданин столкнулся с ним, откинулся назад, хотел было выругаться, но, увидев ошалело-радостное лицо Зорге, его сияющие, будто у школьника, получившего пятерку, глаза, пробормотал сконфуженно:
– Извините!
А Зорге даже не заметил этого человека. Пришел он в себя и построжел, посерьезнел, когда до «шоколадного особняка» идти осталось всего метров тридцать. Но и тридцати метров ему хватило, чтобы стереть с лица гимназическую беспечность и сделаться строгим – в соответствии с учреждением, в которое он шел.
Юг пришлось отложить, в Крым, о котором так мечтала Катя и где очень хотел побывать Зорге, они так и не поехали: на первом месте оказалась работа. А отдых – это потом, потом, потом… Так в России было всегда.
В десять ноль-ноль Зорге явился к начальнику Четвертого управления РККА Урицкому Семену Петровичу, а днем, во второй половине, встретился со своим новым радистом – Бернхарда отзывали в Москву: участок в Токио считался очень горячим, и Бернхард со своим старым паровозом, выдаваемым за современный радиопередатчик, работу все больше и больше заваливал.
После подробной беседы с Урицким (комкор Урицкий оказался знатоком своего дела, чувствовалось, что в разведке он, во-первых, не новичок, а во-вторых, за короткое время сумел вникнуть во все детали кропотливой и тонкой работы управления, знал уже каждого своего сотрудника – в общем, комкор новый был не хуже комкора старого), Зорге провели в отдельную комнату, больше похожую на мастерскую, чем на кабинет, где сидел новый радист.
Радист сидел за столом и что-то чинил в небольшом плоском приемнике, в одной руке он держал паяльник, насаженный на толстую кривую проволоку, в другой – блестящую плошку олова, похожую на новенькую монету.
На звук открывающейся двери радист поднял голову.
– Макс! – воскликнул Зорге громко и бросился к столу, обхватил обеими руками плотное тело Клаузена, затряс его обрадованно: – Макс, старый ты койот! Вот сюрприз так сюрприз. Если бы ты знал, как тебя не хватает!
– И для меня это сюрприз. Семен Петрович не сказал, с кем мне придется встретиться.
– Ах ты, Макс, Макс, – растроганно проговорил Зорге, он никак не мог успокоиться.
– Рихард, – влюбленно произнес Клаузен, он тоже не мог успокоиться, сделал несколько восхищенных пасов рукой, хотел сказать что-то еще, но не смог – слова застряли в горле, где-то внутри – ни выковырнуть их, ни проглотить. Да и не нужны они, слова эти. Без них ведь тоже можно обходиться очень легко.
Добираться до Токио им предстояло разными путями: Зорге одним, чете Клаузенов другим, таковы были законы игры.
Перед Катей Рихард чувствовал себя виноватым, очень виноватым, у него в горле даже возникло что-то теплое, зашевелилось, родило жалость к жене и к самому себе, он покрутил головой протестующе, но поделать ничего не мог.
Вечером встал перед женой на колени, обхватил Катю обеими руками за колени, прижался лицом к подолу ее юбки.
– Катя, прости!
Та встревоженно опустилась на кровать.
– Что случилось?
– Мы не сможем поехать в этот раз на юг, поедем в следующий.
Катя вздохнула обиженно, надрывно и затихла. Долго молчала, потом произнесла едва слышно:
– Я так и знала.
– Прости, Катюш, я должен завтра улететь.
– Куда?
Зорге помедлил несколько мгновений – он не имел права этого говорить, потом, махнув рукой, сказал:
– В Берлин.
Как всякий журналист-международник Зорге обладал правом свободного передвижения по миру, имел льготы, или, как принято ныне говорить, «преференции» (модное же обозначилось словечко, прилипло к нашему языку – не отскрести), и это помогало ему уходить от хвостов, да и страховало от всяких мелких разбирательств, которые могли случиться в Германии. Из его проездных документов было видно, что он следует из Японии в Германию через территорию России.
На то, чтобы пересечь в ту пору Россию – из Владивостока до Москвы, – требовалось не менее девяти-десяти суток, а то и больше: слишком велика была страна Россия, точнее – Советский Союз. Никто в Германии не контролировал передвижения Зорге, он мог задержаться где угодно: журналист есть журналист.
Когда Зорге находился в Москве, стало известно, что в Берлине планируется перелет «юнкерса» новой, только что разработанной, но еще неведомой модели, из немецкой столицы в Токио. Стало также известно, что на борт будет приглашено несколько журналистов. Прежде всего тех, чьи имена Германия знает.
В их число надо было попасть во что бы то ни стало. Тем более что имя Зорге в Германии было уже популярно, оно входило в двадцатку наиболее влиятельных журналистских фамилий. Вот Рихарду и поступил приказ немедленно вылететь в Берлин.
Пощупать новый самолет (явно транспортный, предназначенный для военных перевозок, либо того более – способный нести на своем борту бомбы и сбрасывать их на затихшие города), обследовать его своими руками, понять, что за лепешку слепили немецкие конструкторы, было бы неплохо…
Ранним утром Зорге улетел в Берлин. В Берлине обнаружил, что имя его уже включено в списки пассажиров «юнкерса», так что никаких усилий прилагать Рихарду не пришлось: все сложилось само собою и сложилось удачно.
В немецкой печати тем временем появились рекламные статьи о новом «юнкерсе», из них можно было понять, что за машина получилась (совсем немного усилий надобно, чтобы переделать самолет в бомбардировщик) и Зорге стал готовиться к перелету.
На перелет из Берлина в Токио новому «юнкерсу» понадобились сутки, ровно сутки. Естественно, с посадками для заправки.
Сведения о новом «юнкерсе» Зорге незамедлительно передал в Москву. Машина, вышедшая из ангаров конструкторского бюро авиационных заводов «Юнкерс», была приготовлена для войны.
Рихард уже находился в Токио, Москва давно осталась позади, а внутри все еще сидело прочное чувство вины, он ощущал себя виноватым перед Катей – пообещал, что вместе поедут в Крым, а вместо этого очутился на борту немецкого «юнкерса». Жизнь – дама коварная, все время подсовывает какие-то неожиданные штуки, вот и возникают все новые и новые сюжеты…