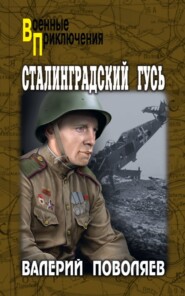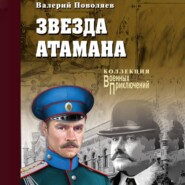По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вопреки всему
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слякоть мартовская – штука противная, это с одной стороны, а с другой – вызывает хвори, простуду, весенняя сырость может накрыть так, что кашлять, хрюкать, захлебываться насморочной жидкостью будешь до самого лета…
В плотной серой вате что-то шевельнулось неловко, громоздко, в следующий миг исчезло, и Куликов, наклонившись к пулемету, сделал небольшую поправку, малость подвернул ствол – понял, куда надо бить. В следующий миг из тумана неожиданно вытаяла страшноватая, белая, со светящейся, как у гоголевского мертвеца физиономией, в нахлобученной на глаза каске, пролаяла что-то, и Куликов не замедлил нажать на гашетку.
Короткая, с оглушающим звуком очередь вбила светящуюся физиономию обратно в туман. Серая ватная скирда нехорошо задрожала, задергалась и сдвинулась с места. Куликов подумал, что сейчас из тумана вновь высунется могильный жилец, захлопает глазами, но ничего этого не произошло.
Под животом, пропитывая телогрейку влагой, задрожала земля, и Куликов понял: «Танки!» Спасибо мастерам минирования, они поставили на танковом пути несколько зарядов, глядишь, сюрпризы эти и проявят себя.
Ждать долго не пришлось. Земля затряслась сильнее, гул танковых моторов сделался четче, стало слышно даже звяканье траков – ну будто специально железом стучали о железо. Куликов стиснул зубы, пробуя угадать, из какой прорехи вылезет первый танк, двинул стволом «максима» в одну сторону, словно бы хотел прощупать туман в этом направлении, потом двинул в другую…
Пусто. Нет танков… Хотя звук их сделался сильнее, и земля начала трястись сильнее, от тряски этой тупо и как-то обреченно заныли мышцы рук.
Он дождался нужного мига и услышал то, чего хотел услышать – звук сильного удара, почувствовал, что земля из-под его тела рванулась куда-то вбок, рванулась яростно, словно бы хотела опрокинуться, тяжелый пулемет завалился на одну сторону, огромная копна тумана подпрыгнула, будто была живая, – сделала это на удивление ловко, проворно… Ну словно бы чего-то опасалась.
А ей и впрямь было чего опасаться.
Немецкий танк, наползавший гусеницами на свежие русские позиции, внезапно возникшие на краю горелого, основательно раскуроченного леса, наехал одной гусеницей на железную тарелку, оставленную сержантом-сапером, окутался пламенем и дымом, мигом растерял разную хозяйственную мелочь, прикрученную к броне, в воздух взвились и проворно размотались два железных троса, несколько звеньев начавшей ржаветь плоской гусеницы, бочка с искусственным, сладко пахнущим горючим, популярным в германской армии, два запечатанных гвоздями ящика…
Непонятно, что было в ящиках – то ли патроны, то ли что-то нужное в танковом хозяйстве – те же гвозди, скобы, болты и гайки или, допустим, мыло.
Через несколько минут подорвался второй танк – саперы поработали отлично, точно все рассчитали, угадали, по каким колеям поползут танки, как поняли и другое: по лесным увалам, рытвинам, медвежьим ямам и провалам аккуратисты-немцы не пойдут вообще – не в их это характере…
В результате счет, как в хорошем футболе в родной Ивановской области, обозначился достойный: два – ноль. А в футбол перед войной начали играть, кажется, все, – кроме, может быть, тянь-шаньских пастухов, проводивших летние сезоны (время футбола) на высокогорных пастбищах в окружении овечьих стад, да присоединившихся к Советскому Союзу молдаван, занятых заготовкой кукурузных початков – иначе зимой можно остаться без любимой мамалыги…
Большой молодец сержант-сапер – точно впечатал минные коробки в землю, под снег – ай, какой молодец! Молодца!
После второго взрыва туманная скирда зашевелилась недовольно и начала понемногу провисать. А может, это и не туман был вовсе, а обычный дым? От случайного снаряда загорелась какая-нибудь старая конюшня, набитая сухим навозом, задымилась азартно, вот туманные клубы и поволоклись от нее к окопам.
Раз скирда начала провисать – значит, немцы решили отступить.
В этот момент Куликов засек то, чего не засекли другие, – по внезапному перемещению копен тумана (ну словно бы их фрицы передвигали внутри сырой серой скирды) определил перегруппировку немцев, переставил пулемет и вновь открыл стрельбу.
Очередь была длинной, рыжего цвета, она легко развалила пространство. Немцы не успели уйти – Куликов положил треть их, стрелял до тех пор, пока не кончилась лента – горячая, извивающаяся, она безвольно распласталась на грязном, пропитанном водой и мартовским холодом снегу.
– Коля, ленту! – громко прокричал Куликов, и напарник, матерясь, выплевывая слова куда-то в сторону, словно бы навсегда избавляясь от них, засуетился около «максима», застучал крышкой коробки, засипел, прикусывая себе дыхание.
Не подготовился к бою парень, за это надо хорошенько настучать по шапке.
– Готово! – голос второго номера донесся до него словно бы издалека, будто по дороге застрял, увяз где-то, в чем-то, вызвал у первого номера досаду, и досада эта остро сжала Куликову горло.
Стараясь понять, где немцы находятся именно в эти миги, Куликов вхолостую провел стволом «максима» по шевелящемуся лохматому краю тумана, послушал пространство, показавшееся ему на этот раз мертвым, – ни лязганья, ни криков, ни стрельбы, нич-чего, словом, – надавил сразу на обе гашетки. Пулемет словно бы наткнулся на что-то невидимое, рявкнул зло, умолк…
Ветер содрал с ближайшего дерева – старой, заваливающейся на один бок осины – скрутку мерзлой коры, размял, превращая добычу в мелкую крошку и швырнул горстью в людей. Жесткая мерзлая кора попала Куликову в рот и оказалась такой горькой, что у пулеметчика на глазах проступили слезы.
– Ну, где вы, гитлерюги? – просипел он надорванно. – Вылезайте! – Добавил несколько крепких матерных слов.
Туман шевелился недобро, мерцающими серыми кучками переплывал с места на место, никто в нем не возникал, похоже, что в этой страшноватой скирде сделалось пусто. Только ветер едва приметно начал пошумливать среди деревьев, но это совсем не означало, что в лесу кто-то есть… Мертво все, в воздухе пахнет уже не дымом подорвавшихся танков, а сырой могилой, по коже ползет нервная дрожь…
Неожиданно справа от себя Куликов увидел двух солдат, появились они только что и теперь, помогая себе саперной лопаткой, одной на двоих, устраивались на закраине окопа с длинным средневековым ружьем. Деловые были ребята. Куликов не удержался от вопроса:
– А вы здесь откуда?
– Прислали для усиления танкоопасного направления, – ответил один из них. Грамотно, по-газетному четко. Явно паренек у себя во взводе обязанности агитатора исполняет – судя по речи, да и больно уж сообразительный. Был он невысок ростом, крепок, при очках. Очки, чтобы случаем не потерять, он зацепил дужками за прочную крученую бечевку, бечевку узелком завязал на затылке, завязку прикрыл шапкой. В общем, все тип-топ, сносно все.
Знал Куликов, что в полку их есть несколько взводов ПТР – противотанковых ружей, но с бойцами-пэтээровцами столкнулся впервые. Высказался боец о цели своего появления на передовой вполне определенно, так что нужный мужичок обозначился с напарником в соседях.
– Как тебя зовут? – спросил Куликов. – Как обращаться-то?
– Деев, – отозвался мужичок.
– А по имени как?
– Называй по фамилии – не ошибешься.
А мужичок-то – с характером. Сразу видно – в колхозе, как Васька Куликов не работал, не убирал на полях рожь с ячменем, скорее всего – единоличник, специализировавшийся на приколачивании подметок к сапогам богатых граждан либо член артели, обслуживавшей городские бани… В общем, он мог быть кем угодно и при этом, что Куликов вполне допускал, состоял в комсомоле.
Характером упертый, командные нотки в голосе его появились еще в утробе матери, – правда, кричать там он не мог, душно было и сыро, но когда вылез наружу, сразу начал покрикивать. Начальник, одним словом. Вполне возможно, что он даже родился в очках.
– Ну, Геев так Геев, – согласно проговорил Куликов и, отерев ладонью лицо, вгляделся в шевелящийся туман – старался понять, есть там фрицы или все уже выколупнулись из копны и убрались на свои позиции?
– Не Геев, а Деев, – поправил его боец в очках.
– Ну, Деев, – согласился и с этим Куликов.
Было тихо. И стрельба неожиданно угасла, и рявканья танковых моторов уже не было слышно, и командного немецкого лая не стало. Хорошо сделалось в туманном лесу… Всегда бы так! Но всегда быть так не могло – не получалось, и это рождало внутри ощущение досады, чего-то сырого, болезненного.
Напарник приподнялся над пулеметным щитком, вслушался в пространство: ну чего там, в этом чертовом тумане? Что слышно? Ушли немцы или не ушли? Вообще-то они не любят, когда атака срывается, могут затаиться, переждать, схимичить, а потом снова вывалиться из пространства, вытаять, словно белена-нечисть, из тумана.
Туман по-прежнему стоял плотный, от позиций красноармейских не отползал, и вообще уходить не хотел, Блинов недовольно покрутил головой, потом глянул на крохотные трофейные часики, украшавшие запястье его левой руки, – сколько там на изящном женском хронометре настукало?
А настукало столько, что время обеда уже ушло. Время ушло, а старшина с обедом так и не «пришло» – застрял где-то кормилец. Ладно бы не пострадал, жив был бы, а то ведь все могло случиться, даже самое худшее… И в ту же пору всегда надо помнить, что смерть – это не самое худшее из того, что может стрястись на фронте.
Послушал Блинов пространство, потеребил его в мыслях, помял, проверяя, ничего опасного вроде бы не нашел и сдвинул на нос свою мятую поношенную шапчонку, украшенную блестящей рубиновой звездочкой – командирской, между прочим, ушлый второй номер умудрился где-то ее достать, не сплоховал… Очень шла звездочка к его шапке, возвышала Кольку в глазах других.
– Палыч, желудок прилип к спине уже совсем, – пожаловался он своему начальнику, – от костяшек, от позвонков самих уже не оторвать.
Вздохнул первый номер сочувственно, он сам находился в таком же состоянии, желудок тоже приклепался к позвоночнику, неплохо бы отведать кулеша из батальонного бака, но старшина с поваром где-то застряли – ни кулеша не было, ни чая, даже обычного черствого хлеба, и того не было… Ни одного кусочка. Первый номер поскреб негнущимися холодными пальцами себе затылок, помолчал немного и разрешающе махнул рукой:
– Давай, Коля! – голос у него был невнятный, усталый. – Действуй!
Блинов выдернул из-за голенища сапога нож, приладил его к ладони так, чтобы нож был продолжением пальцев и вообще всей руки, воткнул острие в бруствер и в одно мгновение выбросил себя из пулеметного гнезда.
Через несколько мгновений он ввинтился в туман, словно в огромную копну, раздвинул обрывки пластов, плотно спекшиеся лохмотья отгреб в сторону, сбил их в несколько липких серых охапок и исчез в образовавшейся норе.
Первый номер, вытянув голову, также послушал пространство – что там происходит? В лесу, на дороге, проложенной между изувеченными ободранными деревьями, за крутым ее изгибом, заминированным саперами?
Тихо было, очень тихо. Хоть бы какое-нибудь железное звяканье раздалось, крики донеслись либо говор – наш или немецкий…
Нет, ничего этого не было. Опустело пространство. Очкастый петеэровец, лежавший рядом с пулеметной ячейкой, поднял голову, покрутил шеей – ему не все тут нравилось, что-то происходило не так, как должно происходить.
В плотной серой вате что-то шевельнулось неловко, громоздко, в следующий миг исчезло, и Куликов, наклонившись к пулемету, сделал небольшую поправку, малость подвернул ствол – понял, куда надо бить. В следующий миг из тумана неожиданно вытаяла страшноватая, белая, со светящейся, как у гоголевского мертвеца физиономией, в нахлобученной на глаза каске, пролаяла что-то, и Куликов не замедлил нажать на гашетку.
Короткая, с оглушающим звуком очередь вбила светящуюся физиономию обратно в туман. Серая ватная скирда нехорошо задрожала, задергалась и сдвинулась с места. Куликов подумал, что сейчас из тумана вновь высунется могильный жилец, захлопает глазами, но ничего этого не произошло.
Под животом, пропитывая телогрейку влагой, задрожала земля, и Куликов понял: «Танки!» Спасибо мастерам минирования, они поставили на танковом пути несколько зарядов, глядишь, сюрпризы эти и проявят себя.
Ждать долго не пришлось. Земля затряслась сильнее, гул танковых моторов сделался четче, стало слышно даже звяканье траков – ну будто специально железом стучали о железо. Куликов стиснул зубы, пробуя угадать, из какой прорехи вылезет первый танк, двинул стволом «максима» в одну сторону, словно бы хотел прощупать туман в этом направлении, потом двинул в другую…
Пусто. Нет танков… Хотя звук их сделался сильнее, и земля начала трястись сильнее, от тряски этой тупо и как-то обреченно заныли мышцы рук.
Он дождался нужного мига и услышал то, чего хотел услышать – звук сильного удара, почувствовал, что земля из-под его тела рванулась куда-то вбок, рванулась яростно, словно бы хотела опрокинуться, тяжелый пулемет завалился на одну сторону, огромная копна тумана подпрыгнула, будто была живая, – сделала это на удивление ловко, проворно… Ну словно бы чего-то опасалась.
А ей и впрямь было чего опасаться.
Немецкий танк, наползавший гусеницами на свежие русские позиции, внезапно возникшие на краю горелого, основательно раскуроченного леса, наехал одной гусеницей на железную тарелку, оставленную сержантом-сапером, окутался пламенем и дымом, мигом растерял разную хозяйственную мелочь, прикрученную к броне, в воздух взвились и проворно размотались два железных троса, несколько звеньев начавшей ржаветь плоской гусеницы, бочка с искусственным, сладко пахнущим горючим, популярным в германской армии, два запечатанных гвоздями ящика…
Непонятно, что было в ящиках – то ли патроны, то ли что-то нужное в танковом хозяйстве – те же гвозди, скобы, болты и гайки или, допустим, мыло.
Через несколько минут подорвался второй танк – саперы поработали отлично, точно все рассчитали, угадали, по каким колеям поползут танки, как поняли и другое: по лесным увалам, рытвинам, медвежьим ямам и провалам аккуратисты-немцы не пойдут вообще – не в их это характере…
В результате счет, как в хорошем футболе в родной Ивановской области, обозначился достойный: два – ноль. А в футбол перед войной начали играть, кажется, все, – кроме, может быть, тянь-шаньских пастухов, проводивших летние сезоны (время футбола) на высокогорных пастбищах в окружении овечьих стад, да присоединившихся к Советскому Союзу молдаван, занятых заготовкой кукурузных початков – иначе зимой можно остаться без любимой мамалыги…
Большой молодец сержант-сапер – точно впечатал минные коробки в землю, под снег – ай, какой молодец! Молодца!
После второго взрыва туманная скирда зашевелилась недовольно и начала понемногу провисать. А может, это и не туман был вовсе, а обычный дым? От случайного снаряда загорелась какая-нибудь старая конюшня, набитая сухим навозом, задымилась азартно, вот туманные клубы и поволоклись от нее к окопам.
Раз скирда начала провисать – значит, немцы решили отступить.
В этот момент Куликов засек то, чего не засекли другие, – по внезапному перемещению копен тумана (ну словно бы их фрицы передвигали внутри сырой серой скирды) определил перегруппировку немцев, переставил пулемет и вновь открыл стрельбу.
Очередь была длинной, рыжего цвета, она легко развалила пространство. Немцы не успели уйти – Куликов положил треть их, стрелял до тех пор, пока не кончилась лента – горячая, извивающаяся, она безвольно распласталась на грязном, пропитанном водой и мартовским холодом снегу.
– Коля, ленту! – громко прокричал Куликов, и напарник, матерясь, выплевывая слова куда-то в сторону, словно бы навсегда избавляясь от них, засуетился около «максима», застучал крышкой коробки, засипел, прикусывая себе дыхание.
Не подготовился к бою парень, за это надо хорошенько настучать по шапке.
– Готово! – голос второго номера донесся до него словно бы издалека, будто по дороге застрял, увяз где-то, в чем-то, вызвал у первого номера досаду, и досада эта остро сжала Куликову горло.
Стараясь понять, где немцы находятся именно в эти миги, Куликов вхолостую провел стволом «максима» по шевелящемуся лохматому краю тумана, послушал пространство, показавшееся ему на этот раз мертвым, – ни лязганья, ни криков, ни стрельбы, нич-чего, словом, – надавил сразу на обе гашетки. Пулемет словно бы наткнулся на что-то невидимое, рявкнул зло, умолк…
Ветер содрал с ближайшего дерева – старой, заваливающейся на один бок осины – скрутку мерзлой коры, размял, превращая добычу в мелкую крошку и швырнул горстью в людей. Жесткая мерзлая кора попала Куликову в рот и оказалась такой горькой, что у пулеметчика на глазах проступили слезы.
– Ну, где вы, гитлерюги? – просипел он надорванно. – Вылезайте! – Добавил несколько крепких матерных слов.
Туман шевелился недобро, мерцающими серыми кучками переплывал с места на место, никто в нем не возникал, похоже, что в этой страшноватой скирде сделалось пусто. Только ветер едва приметно начал пошумливать среди деревьев, но это совсем не означало, что в лесу кто-то есть… Мертво все, в воздухе пахнет уже не дымом подорвавшихся танков, а сырой могилой, по коже ползет нервная дрожь…
Неожиданно справа от себя Куликов увидел двух солдат, появились они только что и теперь, помогая себе саперной лопаткой, одной на двоих, устраивались на закраине окопа с длинным средневековым ружьем. Деловые были ребята. Куликов не удержался от вопроса:
– А вы здесь откуда?
– Прислали для усиления танкоопасного направления, – ответил один из них. Грамотно, по-газетному четко. Явно паренек у себя во взводе обязанности агитатора исполняет – судя по речи, да и больно уж сообразительный. Был он невысок ростом, крепок, при очках. Очки, чтобы случаем не потерять, он зацепил дужками за прочную крученую бечевку, бечевку узелком завязал на затылке, завязку прикрыл шапкой. В общем, все тип-топ, сносно все.
Знал Куликов, что в полку их есть несколько взводов ПТР – противотанковых ружей, но с бойцами-пэтээровцами столкнулся впервые. Высказался боец о цели своего появления на передовой вполне определенно, так что нужный мужичок обозначился с напарником в соседях.
– Как тебя зовут? – спросил Куликов. – Как обращаться-то?
– Деев, – отозвался мужичок.
– А по имени как?
– Называй по фамилии – не ошибешься.
А мужичок-то – с характером. Сразу видно – в колхозе, как Васька Куликов не работал, не убирал на полях рожь с ячменем, скорее всего – единоличник, специализировавшийся на приколачивании подметок к сапогам богатых граждан либо член артели, обслуживавшей городские бани… В общем, он мог быть кем угодно и при этом, что Куликов вполне допускал, состоял в комсомоле.
Характером упертый, командные нотки в голосе его появились еще в утробе матери, – правда, кричать там он не мог, душно было и сыро, но когда вылез наружу, сразу начал покрикивать. Начальник, одним словом. Вполне возможно, что он даже родился в очках.
– Ну, Геев так Геев, – согласно проговорил Куликов и, отерев ладонью лицо, вгляделся в шевелящийся туман – старался понять, есть там фрицы или все уже выколупнулись из копны и убрались на свои позиции?
– Не Геев, а Деев, – поправил его боец в очках.
– Ну, Деев, – согласился и с этим Куликов.
Было тихо. И стрельба неожиданно угасла, и рявканья танковых моторов уже не было слышно, и командного немецкого лая не стало. Хорошо сделалось в туманном лесу… Всегда бы так! Но всегда быть так не могло – не получалось, и это рождало внутри ощущение досады, чего-то сырого, болезненного.
Напарник приподнялся над пулеметным щитком, вслушался в пространство: ну чего там, в этом чертовом тумане? Что слышно? Ушли немцы или не ушли? Вообще-то они не любят, когда атака срывается, могут затаиться, переждать, схимичить, а потом снова вывалиться из пространства, вытаять, словно белена-нечисть, из тумана.
Туман по-прежнему стоял плотный, от позиций красноармейских не отползал, и вообще уходить не хотел, Блинов недовольно покрутил головой, потом глянул на крохотные трофейные часики, украшавшие запястье его левой руки, – сколько там на изящном женском хронометре настукало?
А настукало столько, что время обеда уже ушло. Время ушло, а старшина с обедом так и не «пришло» – застрял где-то кормилец. Ладно бы не пострадал, жив был бы, а то ведь все могло случиться, даже самое худшее… И в ту же пору всегда надо помнить, что смерть – это не самое худшее из того, что может стрястись на фронте.
Послушал Блинов пространство, потеребил его в мыслях, помял, проверяя, ничего опасного вроде бы не нашел и сдвинул на нос свою мятую поношенную шапчонку, украшенную блестящей рубиновой звездочкой – командирской, между прочим, ушлый второй номер умудрился где-то ее достать, не сплоховал… Очень шла звездочка к его шапке, возвышала Кольку в глазах других.
– Палыч, желудок прилип к спине уже совсем, – пожаловался он своему начальнику, – от костяшек, от позвонков самих уже не оторвать.
Вздохнул первый номер сочувственно, он сам находился в таком же состоянии, желудок тоже приклепался к позвоночнику, неплохо бы отведать кулеша из батальонного бака, но старшина с поваром где-то застряли – ни кулеша не было, ни чая, даже обычного черствого хлеба, и того не было… Ни одного кусочка. Первый номер поскреб негнущимися холодными пальцами себе затылок, помолчал немного и разрешающе махнул рукой:
– Давай, Коля! – голос у него был невнятный, усталый. – Действуй!
Блинов выдернул из-за голенища сапога нож, приладил его к ладони так, чтобы нож был продолжением пальцев и вообще всей руки, воткнул острие в бруствер и в одно мгновение выбросил себя из пулеметного гнезда.
Через несколько мгновений он ввинтился в туман, словно в огромную копну, раздвинул обрывки пластов, плотно спекшиеся лохмотья отгреб в сторону, сбил их в несколько липких серых охапок и исчез в образовавшейся норе.
Первый номер, вытянув голову, также послушал пространство – что там происходит? В лесу, на дороге, проложенной между изувеченными ободранными деревьями, за крутым ее изгибом, заминированным саперами?
Тихо было, очень тихо. Хоть бы какое-нибудь железное звяканье раздалось, крики донеслись либо говор – наш или немецкий…
Нет, ничего этого не было. Опустело пространство. Очкастый петеэровец, лежавший рядом с пулеметной ячейкой, поднял голову, покрутил шеей – ему не все тут нравилось, что-то происходило не так, как должно происходить.