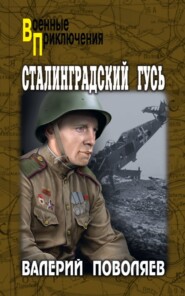По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Охота на убитого соболя
Жанр
Серия
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сразу видно, что человек плавает налево, – сказала девушка.
– Ошибаетесь, сударыня, – возразил Суханов, – человек плавает направо.
«Плавать налево», «плавать направо» – известные всему Мурманску понятия. Сам мурманский порт стоит не в море, а в Кольском заливе, от горловины залива до ковша, где швартуются пароходы, – не менее двух часов хода, в горловине, в самом устье залива, пароходы прощаются, оттуда одни идут налево, к Рыбачьему, а потом пересекают границу и оказываются в норвежских водах, другие – направо, в Арктику, вглубь Баренцева моря, к Карским воротам.
– Налево, что, визу не дают?
– Почему? Дают. Только направо интереснее, – Суханов вытащил тонкую изящную зажигалку с перламутровыми вставками на щечках, дал прикурить.
– Вы гуманоид? – неожиданно спросила девушка.
– А вы любите поговорить? – в свою очередь поинтересовался Суханов.
– Хлебом не корми…
– Нет, я не гуманоид.
– Жаль, а то в нашей кампании есть два гуманоида, из Москвы прилетели.
– Надолго?
– Их уже отзывают назад. Завтра снова будут в Москве.
– Времени нет, а могли бы хорошо поговорить, – Суханов сделал скорбное лицо и вздохнул.
– И я так думаю, – девушка покачнулась, взялась пальцами за край стола. Суханов внимательно посмотрел на нее. Глаза девушки были сухи, чисты, трезвы, надежны. – Тема гуманоидов меня волнует.
– Надолго? – снова спросил Суханов. Его словно бы заклинило на этом вопросе.
– Естественно, нет, – девушка доверчиво улыбнулась, – послезавтра утром, когда здесь не будет гуманоидов, все пройдет. – Она повернулась и, ловко изгибая свое мягкое, словно бы лишенное костей тело, двинулась к себе, в противоположную сторону, стараясь не зацепить ни один из столиков. Провела свое тело к столу, как лоцман высокого класса, в задымленной атмосфере кафе даже ничто не колыхнулось.
Все было просто и понятно, как Божий день. Суханов посмотрел на часы – Ольга запаздывала.
В правом дальнем углу, под стенкой, на которой тускловатыми слепыми пятнами светилось несколько алюминиевых блюд, изображающих, кажется, сцены из жизни богов, впрочем, может, и не богов, а римских или греческих чертей, либо рыб или слонов, издали трудно разобрать, и вообще, что означают эти творения, объяснить, наверное, может только сам художник, – сидел седой загорелый человек в черной морской форме и «четырьмя мостиками на ручье» – четырьмя золотыми шевронами на рукаве, что соответствовало капитанскому званию. Суханов несколько раз видел этого человека, но не был знаком с ним, слышал только, что тот водил когда-то большой сухогруз, но потерпел аварию в море Лаптевых, спас команду, а судно спасти не смог – вместе с грузом ушло на дно. Трое суток люди вместе с капитаном, озябшие, в мокрой одежде, практически без еды, сидели на берегу и, ожидая помощи, кое-как поддерживали маленький слабый костерок. Топлива на берегу не было никакого, только камни и мерзлый мох, и команда скормила огню свои записные книжки, деньги, документы – жгли все, что только могло гореть. Последнее, что капитан бросил в костер, был его судоводительский диплом.
С тех пор он уже не плавал, на море поглядывал лишь из окна своей квартиры, да приходил в это кафе, сидел, молчал, слушал разговоры, рассматривал моряков и потихоньку потягивал что-то из «шайки». У него были седые длинные волосы, красное, просоленное, пробитое, выстуженное морскими ветрами лицо, внимательные умные глаза и неторопливые манеры человека, который знает нечто такое, что мало кто знает. К столику капитана подсел бич и щелкнул пальцами, подзывая официантку. К нему подошла Неля.
– Сто граммов водки, – потребовал бич.
– А деньги у тебя есть? – спокойно, на «ты» спросила Неля – она умела разговаривать с разной публикой, в том числе и с такой, видела людей насквозь, знала, кто есть кто и что есть что, была хорошим психологом, как вообще часто бывают хорошими психологами торговые работники; бич дернулся, словно его стегнули плетью, хотел ударить себя кулаком в грудь, возмутиться, но ему не дал капитан, посмотрел внимательно на Нелю, та даже смутилась от этого пристального взгляда, но вида не подала, что смутилась, продолжала стоять, гордая и прямая, с блокнотиком заказов, зажатым в правой руке, и тогда капитан сказал:
– У меня есть деньги. Дайте ему. Я заплачу.
– Вот видите, он заплатит! – восторженно выкрикнул бич и потыкал пальцем в капитана: неприятный жест, вызывающий недоумение и горечь, как недоумение и горечь вызывают сами бичи – неистребимая принадлежность северных портовых городов. Сколько с ними милиция ни борется – справиться не может, и выселяет их, и переписывает, и на работу пристроить пытается, и на постой определяет – все бесполезно: живут бичи на земле вольно, без хлопот. Где хотят, там и ночуют, пьют, не заботясь о том, что за это надо платить, приворовывают потихоньку, ворованное продают, и нет никаких сил у милиции совладать с бесчинствующими элементами – ползут бичи, распространяются, словно червяки, съедают листья у деревьев, оставляя после себя вытоптанную, загаженную землю да черные, голые стволы.
И без бичей в порту не обойтись, между летом и зимой всегда бывает вилка. Летом работы полно, в два раза больше, чем зимой, – несмотря на то что порт работает круглогодично, не замерзает ни в какую, даже самую лютую зиму, – но все равно в январе работы в два раза меньше, чем в августе, и естественно, позарез бывают нужны сезонные рабочие. Вот тут-то бичи и пригождаются, тут-то они – надежда и опора портового начальства, передовики производства, да и на пароходах, когда кто-то заболевает, а подмену толковую найти сразу не удается, взор тоже обращается к бичам. Хотя капитаны делают это редко – уж больно ненадежен материал-то. Но, увы, не всякий капитан так рассуждает, иные считают: авось у бича совесть пробудится.
Вот и живут, плодятся бичи в Мурманске и Тикси, в Охе и Южно-Сахалинске, в Певеке и Магадане, неистребимое цепкое племя, крикливое, биндюжье, безденежное, опустившееся.
Бич лег на стол грудью, наклонился к капитану и по-голубиному заворковал. Что он там говорил – не было слышно. Суханов снова глянул на циферблат часов: Ольга должна бы уже быть здесь, в кафе, но увы… Хуже нет, когда договариваешься расплывчато, не назначая точного времени – приходи туда-то, мол, и все, а надо договариваться точно: приходи во столько-то, и тогда не будет пустых терзаний, маяты и неясности, мучительного долгого ожидания. Может, встать и пойти к телефону-автомату, снова позвонить Ольге?
Нет, не стоит суетиться. Суета нужна только в двух случаях жизни, в третьем она уже лишняя.
А женщина, которую он ждал, еще не выходила из дома. Уже одетая, в высоких сапогах, с туфлями, положенными в полиэтиленовую сумку, она стояла посреди своей квартиры и вела разговор с человеком, сидевшим перед ней в кресле. Хотя лицо ее было спокойным, даже каким-то застывшим в неестественном внутреннем оцепенении, в некой напряженной немоте, которая, случается, накатывает на человека в минуту возбужденности, когда невольно кажется, что земля уходит из-под ног, кренится набок, все летит прахом и сам человек через минуту-другую унесется в преисподнюю, и, чтобы хоть как-то отдалить конец, одолеть все это, он цепенеет, лицо его делается каменным, неживым, излишне спокойным.
Мужчина, сидевший в кресле, хорошо знал Ольгу и вел неторопливый разговор, курил, стряхивал пепел в фарфоровую розетку, зажатую в пальцах, и с каждым таким стряхиваньем Ольга болезненно прищуривала глаза: розетка не для пепла была предназначена – для варенья. Мужчина пришел внезапно – Ольга не ждала его. Неожиданно раздался звонок в дверь, Ольга открыла и с каким-то слепым удивлением отступила назад: на пороге стоял Вадим с букетиком подснежников.
– Вот, – сказал Вадим и протянул Ольге букетик, – у человека в большой кепке купил.
«Ох, какое это все-таки неудобство, когда в дом приходит незваный гость, – подумала Ольга, понюхала подснежники. Цветы пахли чем-то слабым, лежалым, мокрым – наверное, тающим снегом и проступающей сквозь него землей, вязкой, кое-где с ледяными монетами, влажной, еще не проснувшейся, заставляющей сжиматься сердце: будто сделал некое открытие, а открытия-то никакого и нет. Поморщилась. Когда гость вваливается внезапно, то… в общем, есть тут нечто такое, что невольно заставляет морщиться. Хотя Вадим – это Вадим, – лицо ее на несколько секунд расслабилось, она ощутила в себе что-то теплое, доброе, будто подсела к огню и почувствовала горячий плеск пламени.
– А знаешь, почему грузины носят большие кепки? – спросил Вадим и тут же ответил: – Чтоб брюки не выгорали.
Не дожидаясь приглашения, прошел в комнату, опустился в кресло, посмотрел на свою обувь, Ольга тоже посмотрела, хотела сказать что-то, но Вадим не дал ей это сделать, пояснил с доброжелательной широкой улыбкой: «Как видишь, ноги у меня чистые, я по улице почти не ходил, все в такси ездил». Пошарил в кармане, достал сигареты и спички, одну сигарету сунул в рот, побрякал коробкой, проверяя, есть «топливо» или нет, вздохнул:
– Замотался я сегодня, как Александр Македонский в Египте. С самого утра на ногах, – просветленными глазами оглядел Ольгу, спросил с улыбкой: – А ты, я вижу, куда-то собралась? Одна? Без меня?
– Да, собралась, – сказала Ольга, – недалеко и ненадолго, – махнула рукой. Жест был неопределенным. – По одному важному делу.
– Без важных дел ныне редко кто куда ходит. Категория чистых бродяг, увы, перевелась.
– Надеюсь, ты меня за бродягу не принимаешь? – Ольге вдруг захотелось хоть чем-то досадить Вадиму.
– Упаси Господь. Ты у нас современная деловая женщина, которая не тратит времени попусту – все рассчитано, все расписано. – Вадим говорил, голос у него был мягким, обволакивающим, такой голос опасен, он расслабляет, зачаровывает – она понимала, что будет слушать Вадима до бесконечности, о чем бы тот ни говорил – о пустяках или о крупном, о грядущем всемирном потопе, о событиях, покрытых плесенью времени, либо же о том, что у него ноет отдавленная в магазинной толчее нога, когда он покупал для Ольги торт и шампанское.
Строгий расчет и обязательную расписанность времени, когда не допускаются ненужные траты, – это все Вадимово, он никогда не транжирит и не жжет попусту минуты, у него не бывает пустых пауз, все подогнано друг другу плотно, без щелей, ни одна секундочка не свалится на пол со стола.
– Я прошу тебя, не уходи, – проговорил Вадим, не меняя тона, голос его продолжал оставаться ласковым, убаюкивающим. – Ну, пожалуйста, Ольга!
– Не могу.
– Я тебе шампанское принес, пирожные, которые ты любишь. Посидим, поговорим. Куда тебе идти в такой мороз? Хрупкой слабой женщине… Да этот мороз портовых грузчиков с ног сбивает!
– Пойми, мне надо уйти. Я обещала!
– Куда именно надо уйти? Скажи, и я тебя отпущу. – Вадим засекал каждое ее движение, каждую перемену на лице, заметил и тени, что появились под глазами, и усталые морщинки, обметавшие уголки губ, и беспокойно расширенные зрачки – видел то, чего не могла увидеть без зеркала сама Ольга. Усмехнулся грустно. – Недавно я открыл один заграничный журнал рисованный, «Ателье» называется. Карикатуры. На все темы жизни. Есть там один простенький рисунок. На проводах сидят две маленькие серенькие птички – кажется, воробьи. А может… Не суть важно – воробьи, в общем. Он и она. Она ничего, обыкновенная птичка, а у него на маленькой хрупкой головке – огромные оленьи рога. Это надо же – у воробья ветвистые оленьи рога! Скажи, откуда у воробья могут быть такие рога?
Ольга молчала. Она думала о том, что же конкретно связывает ее с этим человеком. Кем он ей приходится? Мужем? Любовником? Хорошим знакомым? Другом, без которого никак нельзя обойтись? В ней возникло что-то протестующее, но, увы, далекое – это душевное движение было слабым, неприметным, оно угасло, не успев разгореться, на лице ее, спокойном, застывшем в каком-то странном отрешении, ничего не отразилось.
Все мы глупеем, превращаемся в людей, незнакомых самим себе, и одновременно робеем, будто цыплята, только что выбравшиеся из-под наседки, делаемся почтительными, как взятые за ухо школяры, когда узнаем, что кто-то находится выше нас. Неважно, в чем выражается это превосходство, в служебном ли положении в книге, которая получила признание, в научном открытии, либо просто в искрометных остроумных речах – все равно! Мы будем смущаться, робеть, прятаться в некую душевную скорлупу, зажиматься, чувствовать себя черной костью, ибо в мозгу, в самых дальних закоулках теплится, сверлит голову мысль: а ведь этот человек стоит выше… Почему все это происходит, кто может объяснить причину такой зажатости? Почему Вадим стал таким? Ведь он всегда был сильным, умелым, способным вести за собою, покорять – и вдруг квелость, робость, погруженность в самого себя? Он готов хныкать от того, что на спине вскочил прыщ, а на пальцах натерты мозоли, стал склонным к наушничанью и сплетне – вещам, как известно, совсем немужским.
– А ты красивая женщина, Ольга, – Вадим пустил изо рта дым колечком – ровным, четким, хорошо видным в сумраке затененной комнаты. Колечко высветилось мертвенной синью, задрожало, будто живое, поползло вверх. – Ты престижная женщина, Ольга!
– Как дубленка фирмы «Салан», – усмехнулась она, – и надеть приятно, и в ломбард заложить можно.
– Красивая женщина – подарок и наказание одновременно, – Вадим не обратил на Ольгин выпад внимания. – А чего больше – никому не ведомо. Ник-кому. Потому и маются сильные мира сего, не зная, как с такой женщиной обходиться: то ли как с подарком, то ли как с наказанием? Действительно, как?
Внутри у нее снова родился протест, но протест опять был слабым, он снова так и не разгорелся, угас. Но она поняла в эту минуту, чем держит ее этот человек. Обычной вещью: в нем все время появляется что-то новое – каждый раз он преподносит нечто неведомое ей, свежее – некую историю, эпизод, анекдот, даже пошлость, которая у него не выглядит пошлостью, какую-то мысль, находящуюся на поверхности, но, увы, до Вадима никем не подмеченную, либо точно увиденную деталь, или характер знакомого человека: вроде бы человек был ведом всем – все знали его в определенной ипостаси, и вдруг он приоткрыл створки и сделался другим – именно эти моменты душевной раскупоренности умеет подмечать Вадим.
– Ошибаетесь, сударыня, – возразил Суханов, – человек плавает направо.
«Плавать налево», «плавать направо» – известные всему Мурманску понятия. Сам мурманский порт стоит не в море, а в Кольском заливе, от горловины залива до ковша, где швартуются пароходы, – не менее двух часов хода, в горловине, в самом устье залива, пароходы прощаются, оттуда одни идут налево, к Рыбачьему, а потом пересекают границу и оказываются в норвежских водах, другие – направо, в Арктику, вглубь Баренцева моря, к Карским воротам.
– Налево, что, визу не дают?
– Почему? Дают. Только направо интереснее, – Суханов вытащил тонкую изящную зажигалку с перламутровыми вставками на щечках, дал прикурить.
– Вы гуманоид? – неожиданно спросила девушка.
– А вы любите поговорить? – в свою очередь поинтересовался Суханов.
– Хлебом не корми…
– Нет, я не гуманоид.
– Жаль, а то в нашей кампании есть два гуманоида, из Москвы прилетели.
– Надолго?
– Их уже отзывают назад. Завтра снова будут в Москве.
– Времени нет, а могли бы хорошо поговорить, – Суханов сделал скорбное лицо и вздохнул.
– И я так думаю, – девушка покачнулась, взялась пальцами за край стола. Суханов внимательно посмотрел на нее. Глаза девушки были сухи, чисты, трезвы, надежны. – Тема гуманоидов меня волнует.
– Надолго? – снова спросил Суханов. Его словно бы заклинило на этом вопросе.
– Естественно, нет, – девушка доверчиво улыбнулась, – послезавтра утром, когда здесь не будет гуманоидов, все пройдет. – Она повернулась и, ловко изгибая свое мягкое, словно бы лишенное костей тело, двинулась к себе, в противоположную сторону, стараясь не зацепить ни один из столиков. Провела свое тело к столу, как лоцман высокого класса, в задымленной атмосфере кафе даже ничто не колыхнулось.
Все было просто и понятно, как Божий день. Суханов посмотрел на часы – Ольга запаздывала.
В правом дальнем углу, под стенкой, на которой тускловатыми слепыми пятнами светилось несколько алюминиевых блюд, изображающих, кажется, сцены из жизни богов, впрочем, может, и не богов, а римских или греческих чертей, либо рыб или слонов, издали трудно разобрать, и вообще, что означают эти творения, объяснить, наверное, может только сам художник, – сидел седой загорелый человек в черной морской форме и «четырьмя мостиками на ручье» – четырьмя золотыми шевронами на рукаве, что соответствовало капитанскому званию. Суханов несколько раз видел этого человека, но не был знаком с ним, слышал только, что тот водил когда-то большой сухогруз, но потерпел аварию в море Лаптевых, спас команду, а судно спасти не смог – вместе с грузом ушло на дно. Трое суток люди вместе с капитаном, озябшие, в мокрой одежде, практически без еды, сидели на берегу и, ожидая помощи, кое-как поддерживали маленький слабый костерок. Топлива на берегу не было никакого, только камни и мерзлый мох, и команда скормила огню свои записные книжки, деньги, документы – жгли все, что только могло гореть. Последнее, что капитан бросил в костер, был его судоводительский диплом.
С тех пор он уже не плавал, на море поглядывал лишь из окна своей квартиры, да приходил в это кафе, сидел, молчал, слушал разговоры, рассматривал моряков и потихоньку потягивал что-то из «шайки». У него были седые длинные волосы, красное, просоленное, пробитое, выстуженное морскими ветрами лицо, внимательные умные глаза и неторопливые манеры человека, который знает нечто такое, что мало кто знает. К столику капитана подсел бич и щелкнул пальцами, подзывая официантку. К нему подошла Неля.
– Сто граммов водки, – потребовал бич.
– А деньги у тебя есть? – спокойно, на «ты» спросила Неля – она умела разговаривать с разной публикой, в том числе и с такой, видела людей насквозь, знала, кто есть кто и что есть что, была хорошим психологом, как вообще часто бывают хорошими психологами торговые работники; бич дернулся, словно его стегнули плетью, хотел ударить себя кулаком в грудь, возмутиться, но ему не дал капитан, посмотрел внимательно на Нелю, та даже смутилась от этого пристального взгляда, но вида не подала, что смутилась, продолжала стоять, гордая и прямая, с блокнотиком заказов, зажатым в правой руке, и тогда капитан сказал:
– У меня есть деньги. Дайте ему. Я заплачу.
– Вот видите, он заплатит! – восторженно выкрикнул бич и потыкал пальцем в капитана: неприятный жест, вызывающий недоумение и горечь, как недоумение и горечь вызывают сами бичи – неистребимая принадлежность северных портовых городов. Сколько с ними милиция ни борется – справиться не может, и выселяет их, и переписывает, и на работу пристроить пытается, и на постой определяет – все бесполезно: живут бичи на земле вольно, без хлопот. Где хотят, там и ночуют, пьют, не заботясь о том, что за это надо платить, приворовывают потихоньку, ворованное продают, и нет никаких сил у милиции совладать с бесчинствующими элементами – ползут бичи, распространяются, словно червяки, съедают листья у деревьев, оставляя после себя вытоптанную, загаженную землю да черные, голые стволы.
И без бичей в порту не обойтись, между летом и зимой всегда бывает вилка. Летом работы полно, в два раза больше, чем зимой, – несмотря на то что порт работает круглогодично, не замерзает ни в какую, даже самую лютую зиму, – но все равно в январе работы в два раза меньше, чем в августе, и естественно, позарез бывают нужны сезонные рабочие. Вот тут-то бичи и пригождаются, тут-то они – надежда и опора портового начальства, передовики производства, да и на пароходах, когда кто-то заболевает, а подмену толковую найти сразу не удается, взор тоже обращается к бичам. Хотя капитаны делают это редко – уж больно ненадежен материал-то. Но, увы, не всякий капитан так рассуждает, иные считают: авось у бича совесть пробудится.
Вот и живут, плодятся бичи в Мурманске и Тикси, в Охе и Южно-Сахалинске, в Певеке и Магадане, неистребимое цепкое племя, крикливое, биндюжье, безденежное, опустившееся.
Бич лег на стол грудью, наклонился к капитану и по-голубиному заворковал. Что он там говорил – не было слышно. Суханов снова глянул на циферблат часов: Ольга должна бы уже быть здесь, в кафе, но увы… Хуже нет, когда договариваешься расплывчато, не назначая точного времени – приходи туда-то, мол, и все, а надо договариваться точно: приходи во столько-то, и тогда не будет пустых терзаний, маяты и неясности, мучительного долгого ожидания. Может, встать и пойти к телефону-автомату, снова позвонить Ольге?
Нет, не стоит суетиться. Суета нужна только в двух случаях жизни, в третьем она уже лишняя.
А женщина, которую он ждал, еще не выходила из дома. Уже одетая, в высоких сапогах, с туфлями, положенными в полиэтиленовую сумку, она стояла посреди своей квартиры и вела разговор с человеком, сидевшим перед ней в кресле. Хотя лицо ее было спокойным, даже каким-то застывшим в неестественном внутреннем оцепенении, в некой напряженной немоте, которая, случается, накатывает на человека в минуту возбужденности, когда невольно кажется, что земля уходит из-под ног, кренится набок, все летит прахом и сам человек через минуту-другую унесется в преисподнюю, и, чтобы хоть как-то отдалить конец, одолеть все это, он цепенеет, лицо его делается каменным, неживым, излишне спокойным.
Мужчина, сидевший в кресле, хорошо знал Ольгу и вел неторопливый разговор, курил, стряхивал пепел в фарфоровую розетку, зажатую в пальцах, и с каждым таким стряхиваньем Ольга болезненно прищуривала глаза: розетка не для пепла была предназначена – для варенья. Мужчина пришел внезапно – Ольга не ждала его. Неожиданно раздался звонок в дверь, Ольга открыла и с каким-то слепым удивлением отступила назад: на пороге стоял Вадим с букетиком подснежников.
– Вот, – сказал Вадим и протянул Ольге букетик, – у человека в большой кепке купил.
«Ох, какое это все-таки неудобство, когда в дом приходит незваный гость, – подумала Ольга, понюхала подснежники. Цветы пахли чем-то слабым, лежалым, мокрым – наверное, тающим снегом и проступающей сквозь него землей, вязкой, кое-где с ледяными монетами, влажной, еще не проснувшейся, заставляющей сжиматься сердце: будто сделал некое открытие, а открытия-то никакого и нет. Поморщилась. Когда гость вваливается внезапно, то… в общем, есть тут нечто такое, что невольно заставляет морщиться. Хотя Вадим – это Вадим, – лицо ее на несколько секунд расслабилось, она ощутила в себе что-то теплое, доброе, будто подсела к огню и почувствовала горячий плеск пламени.
– А знаешь, почему грузины носят большие кепки? – спросил Вадим и тут же ответил: – Чтоб брюки не выгорали.
Не дожидаясь приглашения, прошел в комнату, опустился в кресло, посмотрел на свою обувь, Ольга тоже посмотрела, хотела сказать что-то, но Вадим не дал ей это сделать, пояснил с доброжелательной широкой улыбкой: «Как видишь, ноги у меня чистые, я по улице почти не ходил, все в такси ездил». Пошарил в кармане, достал сигареты и спички, одну сигарету сунул в рот, побрякал коробкой, проверяя, есть «топливо» или нет, вздохнул:
– Замотался я сегодня, как Александр Македонский в Египте. С самого утра на ногах, – просветленными глазами оглядел Ольгу, спросил с улыбкой: – А ты, я вижу, куда-то собралась? Одна? Без меня?
– Да, собралась, – сказала Ольга, – недалеко и ненадолго, – махнула рукой. Жест был неопределенным. – По одному важному делу.
– Без важных дел ныне редко кто куда ходит. Категория чистых бродяг, увы, перевелась.
– Надеюсь, ты меня за бродягу не принимаешь? – Ольге вдруг захотелось хоть чем-то досадить Вадиму.
– Упаси Господь. Ты у нас современная деловая женщина, которая не тратит времени попусту – все рассчитано, все расписано. – Вадим говорил, голос у него был мягким, обволакивающим, такой голос опасен, он расслабляет, зачаровывает – она понимала, что будет слушать Вадима до бесконечности, о чем бы тот ни говорил – о пустяках или о крупном, о грядущем всемирном потопе, о событиях, покрытых плесенью времени, либо же о том, что у него ноет отдавленная в магазинной толчее нога, когда он покупал для Ольги торт и шампанское.
Строгий расчет и обязательную расписанность времени, когда не допускаются ненужные траты, – это все Вадимово, он никогда не транжирит и не жжет попусту минуты, у него не бывает пустых пауз, все подогнано друг другу плотно, без щелей, ни одна секундочка не свалится на пол со стола.
– Я прошу тебя, не уходи, – проговорил Вадим, не меняя тона, голос его продолжал оставаться ласковым, убаюкивающим. – Ну, пожалуйста, Ольга!
– Не могу.
– Я тебе шампанское принес, пирожные, которые ты любишь. Посидим, поговорим. Куда тебе идти в такой мороз? Хрупкой слабой женщине… Да этот мороз портовых грузчиков с ног сбивает!
– Пойми, мне надо уйти. Я обещала!
– Куда именно надо уйти? Скажи, и я тебя отпущу. – Вадим засекал каждое ее движение, каждую перемену на лице, заметил и тени, что появились под глазами, и усталые морщинки, обметавшие уголки губ, и беспокойно расширенные зрачки – видел то, чего не могла увидеть без зеркала сама Ольга. Усмехнулся грустно. – Недавно я открыл один заграничный журнал рисованный, «Ателье» называется. Карикатуры. На все темы жизни. Есть там один простенький рисунок. На проводах сидят две маленькие серенькие птички – кажется, воробьи. А может… Не суть важно – воробьи, в общем. Он и она. Она ничего, обыкновенная птичка, а у него на маленькой хрупкой головке – огромные оленьи рога. Это надо же – у воробья ветвистые оленьи рога! Скажи, откуда у воробья могут быть такие рога?
Ольга молчала. Она думала о том, что же конкретно связывает ее с этим человеком. Кем он ей приходится? Мужем? Любовником? Хорошим знакомым? Другом, без которого никак нельзя обойтись? В ней возникло что-то протестующее, но, увы, далекое – это душевное движение было слабым, неприметным, оно угасло, не успев разгореться, на лице ее, спокойном, застывшем в каком-то странном отрешении, ничего не отразилось.
Все мы глупеем, превращаемся в людей, незнакомых самим себе, и одновременно робеем, будто цыплята, только что выбравшиеся из-под наседки, делаемся почтительными, как взятые за ухо школяры, когда узнаем, что кто-то находится выше нас. Неважно, в чем выражается это превосходство, в служебном ли положении в книге, которая получила признание, в научном открытии, либо просто в искрометных остроумных речах – все равно! Мы будем смущаться, робеть, прятаться в некую душевную скорлупу, зажиматься, чувствовать себя черной костью, ибо в мозгу, в самых дальних закоулках теплится, сверлит голову мысль: а ведь этот человек стоит выше… Почему все это происходит, кто может объяснить причину такой зажатости? Почему Вадим стал таким? Ведь он всегда был сильным, умелым, способным вести за собою, покорять – и вдруг квелость, робость, погруженность в самого себя? Он готов хныкать от того, что на спине вскочил прыщ, а на пальцах натерты мозоли, стал склонным к наушничанью и сплетне – вещам, как известно, совсем немужским.
– А ты красивая женщина, Ольга, – Вадим пустил изо рта дым колечком – ровным, четким, хорошо видным в сумраке затененной комнаты. Колечко высветилось мертвенной синью, задрожало, будто живое, поползло вверх. – Ты престижная женщина, Ольга!
– Как дубленка фирмы «Салан», – усмехнулась она, – и надеть приятно, и в ломбард заложить можно.
– Красивая женщина – подарок и наказание одновременно, – Вадим не обратил на Ольгин выпад внимания. – А чего больше – никому не ведомо. Ник-кому. Потому и маются сильные мира сего, не зная, как с такой женщиной обходиться: то ли как с подарком, то ли как с наказанием? Действительно, как?
Внутри у нее снова родился протест, но протест опять был слабым, он снова так и не разгорелся, угас. Но она поняла в эту минуту, чем держит ее этот человек. Обычной вещью: в нем все время появляется что-то новое – каждый раз он преподносит нечто неведомое ей, свежее – некую историю, эпизод, анекдот, даже пошлость, которая у него не выглядит пошлостью, какую-то мысль, находящуюся на поверхности, но, увы, до Вадима никем не подмеченную, либо точно увиденную деталь, или характер знакомого человека: вроде бы человек был ведом всем – все знали его в определенной ипостаси, и вдруг он приоткрыл створки и сделался другим – именно эти моменты душевной раскупоренности умеет подмечать Вадим.