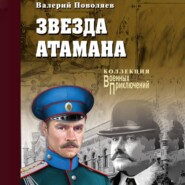По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сталинградский гусь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Видел он сон, а во сне – дом свой, сложенный из двух половинок, кирпичной и деревянной. Деревянная половинка – это старая изба, доставшаяся отцу его от родителей – деда и бабушки, тесная, теплая, которую стали заваливать разными предметами, едва появилась новая половина, – так в городах поступают с чердаками; кирпичный же дом был парадным, тут и гостей принимали, и на торжественные обеды собирались, – все вместе, не забывая приглашать и дальних родственников, за столом вмещались даже сопливые детишки, а тех, кто был уж совсем соплив, в люльках подвешивали над краем стола.
Русские семьи тем и сильны, что в них никогда никого не забывали, всех помнили, и если какому-нибудь неприятелю надо было дать отпор, также собирались вместе и сообща ломали хребет противнику куда более сильному.
Проснувшись, Максимыч некоторое время не мог понять, где он находится, – слишком уж тихо было все вокруг, было погружено в прозрачную, вызывающую зуд в хребте туманную дымку, пространство было таинственно-лиловым, словно бы пулеметчик находился в глухом рассветном лесу, от неведомого предчувствия у него даже сжало глотку.
Предчувствия на войне играют серьезную роль, в человеке все обостряется, всякий, даже очень малый звук может сказать ему о многом, он вообще может навести на цель, может спасти человека через несколько минут, может, наоборот, убить… война – это война.
Сознание прояснело. Природе от войны достается больше всего, – и как только она терпит издевательства, которые ей подкидывает человек, учиняют его деятельные руки? Воздух тем временем, несмотря на рассветную прозрачность, потяжелел, растерял романтичную лиловость, загустел, впечатление было такое, что скоро посыплется дождь…
Впрочем, ефрейтору Максимову к дождю не привыкать, дождь – это много лучше, чем иссушающая жара или стужа, от которой ломит кости, под дождем расчет Максимова провел столько времени, сколько природой вообще не предусмотрено.
Тут еще одна напасть подоспела – на фронте заботы, пахнущие пороховым дымом или окрашенные в пороховой цвет, в одиночку не ходят, перемещаются обязательно кучно, иногда большим числом, – о подросшем гусенке вспомнил капитан Щербатов, очень ему захотелось, как тем полякам, свежей гусятинки отведать… Давно, видать, не ел комбат, еще с московской поры.
– А что, Максимов, может, не дожидаться нам Берлина и устроить какой-нибудь звонкий праздник? Например, взять, да отметить день Парижской коммуны… Как?
Максимыч быстро понял, куда тянет батальонный и угрюмо, сжимая слова зубами, произнес:
– Этот праздник уже прошел… В прошлом году, летом.
– Вовсе не обязательно, чтобы был день Парижской коммуны, Максимов. Пусть будет день охотничьего пыжа. Или праздник хорошо начищенных сапог. Или день копченой рыбы. В общем, неважно, что за праздник. А гуся твоего, чтобы он не занимал место в обозе, пустим в суп. Ну как идея, Максимов?
– Плохая идея, я уже говорил как-то, – прежним угрюмым, очень глухим тоном проговорил пулеметчик.
Это батальонному командиру не понравилось, он поморщился, будто вместо сахара ординарец положил ему в чай горчицы, расправил складки на гимнастерке, стягивая их под ремнем в одну кучку.
– На фронте, где положено быть предельно дисциплинированным, есть одно железное правило, ефрейтор Максимов, которое не оспаривается ни в суде, ни в нижестоящих штабах, – приказ. Будет приказ – выложишь гуся на сковородку, как миленький.
– На фронте, товарищ капитан, есть вышестоящие командиры, которые отменяют приказы командиров нижестоящих, если приказы эти дурацкие, – глухо и упрямо проговорил Максимыч.
Лицо комбата стало не только морщинистым и кислым, но и покраснело, как зрелый помидор на щедрой кубанской грядке.
– Вы, ефрейтор Максимов, вы… вы будете у меня в первых рядах цепи ходить в атаку… С винтовочкой в руках, без всякого пулемета, яс-сно… – начал выговаривать комбат и захлебнулся, словно бы в довершение обеда проглотил пару горячих гвоздей, в следующую минуту взял себя в руки, выпрямился горделиво, окинул пулеметчика высокомерным, каким-то брезгливым взглядом, поправил воротник на гимнастерке, не совладав с верхней пуговицей, рванул ткань, и пуговица шлепнулась ему под сапоги.
Зло подбивая мысками сапог куски земли, деревяшки, ржавые железки, некстати вылезшие на поверхность, Щербатов ушел. Максимыч проводил его внимательным взглядом. Хотел было даже предупредить, чтобы берег ноги, ведь так он может поддеть мину-противопехотку, но не стал, – разорется еще человек, выйдет из себя…
А комбат на фронте должен иметь спокойную, трезвую и холодную голову: на передовой в любую минуту может случиться что угодно.
Вечером, когда старшины потащили в свои роты бидоны с едой, Щербатов вызвал к себе командира второй роты.
– Слушай, Пустырев, что за человек у тебя в роте числится пулеметчиком? Он хоть за пулеметом своим следит? А то я вижу, он гусю, которого выращивает, чистит задницу чаще, чем пулемету?.. Не перевести ли его в окоп?
– Он и так в окопе находится, товарищ капитан, – сухо, очень вежливо и спокойно ответил Пустырев.
Щербатов снова поморщился: до чего непонятливый народ окружает его! В этом вопросе надо навести порядок.
– А вот как пулеметчик, он чего, со своими профессиональными обязанностями справляется или не очень справляется?
– Считается лучшим пулеметчиком нашего батальона.
– Кто это определил?
– Еще до меня определили, до моего прихода в батальон. И это действительно так, товарищ капитан.
– Тэк-тэк-тэкс, – задумчиво произнес Щербатов, постучал пальцами, как барабанными палочками по столу, с недоброй улыбкой покачал головой. – А ведь он очень бы неплохо в первых рядах атакующей цепи. Со своими медалями. Знамени в руках только не будет хватать.
– Не советую, товарищ капитан, переводить ефрейтора Максимова в рядовые бойцы. В первой же атаке, в которую вы пойдете, вас и не станет.
– Очень похоже на угрозу, лейтенант!
– Никак нет, товарищ капитан! Зная батальон, просто хочу предостеречь вас.
Лицо у Щербатова потяжелело, некоторое время он сидел молча, думал о чем-то своем, потом, вздохнув, махнул обвядшей рукой:
– Ладно, хрен с ним, с гусем этим! Пусть живет и молится за своих заступников. Хотя пулеметчика я загнал бы в обычную стрелковую ячейку.
Пустырев на это ничего не ответил, промолчал.
Погода стояла весенняя, солнышко, похожее на круг домашнего коровьего масла, купалось в золотистой небесной выси, плавало по ней, шевелилось взбодренно; если постоять где-нибудь в укромном углу, в затишке минут двадцать пять, то и загореть можно было до эфиопской коричневы… Хорошо было; всякому солдату невольно вспоминалось детство с его радостями и звонким теплом, с надеждами, среди которых ожидание лета было одно из самых главных…
И что хорошо – в детстве все надежды сбывались, все исполнялись… А вот сейчас, когда вчерашние дети стали взрослыми и даже поседели, постарели, – особенно, когда попали на фронт, – сейчас надежды сбудутся?
Утром в пять часов, когда сырость пробивала до костей, а язык от холода прилипал к нёбу и мешал говорить, вместо отчетливой речи раздавалось какое-то невнятное мычание, бойцы батальона были погружены в новенькие «студебекеры» и вместе со всем своим хозяйством, в том числе и с фурами, переброшены дальше на запад.
Надо заметить, что границу с Германией никто бы из них и не засек, если бы не мутный буйный Одер.
Вода в реке, шириной не уступающей Волге, была грязной, полной мусора, – и чего только не было в желтоватых, радужно поблескивавших мазутом завитках воды, – увидеть можно было все, от плывущих ботинок в празднично-яркой намокшей коробке до деревянного кузова, сдернутого с грузовика и плывущего важно, будто большой одежный шкаф из гарнитура какого-нибудь известного средневекового замка…
Очень уж широк был Одер в этом месте, неужели нельзя было переместиться куда-нибудь в сторону километров на двадцать-двадцать пять, где река поуже? Нельзя. В этом месте проходит самая короткая дорога на Берлин – короче нет.
Немцы вели по реке частый огонь – старались помешать возведению понтонных мостов, снаряды взбивали высокие тяжелые фонтаны воды, опускавшиеся назад, в реку, с грохотом не меньшим, чем сами снаряды.
Но огонь немецкий не мешал саперам работать, возводить понтонные переправы. Вот одна темная металлическая нитка перекинулась с одного берега на другой и тут же по ней пошли танки, следом машины, в основном «УралЗИСы» – главная автомобильная тяга войны, словно бы в подкрепление к ним – сыто пофыркивающие моторами студики, как солдаты называли сильные американские «студебекеры», поступавшие на фронт по ленд-лизу, ставшему предшественником второго фронта, согревавшие солдатские души и головы мыслью, что есть еще страны, готовые протянуть советским людям руку помощи.
– И чего фрицы все кидают и кидают свои чемоданы в реку, батя? – неожиданно обратился к Максимычу при посадке солдат из соседней полуторки, которая через несколько минут въехала на шаткую конструкцию понтонного моста следом за «студебекерами» отдельного стрелкового батальона. – Ведь вон, стоят на нашем берегу «катюши», целях пять штук, вдарили бы пару раз по целям и все – фрицев даже слышно бы не было, не то, чтобы кидать чего-нибудь на наши понтоны.
– Видать, «катюши» для других дел предназначены, иначе бы вдарили. С этим вопросом надо к высшему командованию обращаться, не ко мне, – ефрейтор потыкал указательным пальцем вверх.
А «катюши» действительно стояли под прикрытием ровного, словно бы по линейке выросшего ясеневого леска без дела и чего-то ожидали.
Пареньку в старой выгоревшей каске, испещренной следами прежних ударов, царапинами это дело было непонятно. Впрочем, как непонятно и самому Максимычу – ему тоже хотелось, чтобы «катюши» развернулись в боевой порядок и пару-тройку раз врезали по немецким орудиям, укрытым за линией горизонта, рявкнули бы и все – этого было бы достаточно, чтобы далекие гитлеровские пушки умолкли навсегда.
Тем временем снаряд попал в «студебекер», шедший впереди, понтон просел, от бортов машины полетели щепки, обломки креплений и уголков, с крючьев сдернуты лавки, которые были поставлены поперек кузова.
Кабина мгновенно сжалась, перекособочилась и обратилась в одну большую дыру, наполненную огнем, дымом, яркими брызгами, похожими на стремительный, остро режущий глаза дождь электросварки. Машины остановились. Но ненадолго.
К «студебеккеру» тут же метнулись солдаты, находившиеся на мосту, с дружным «И-и-раз!» приподняли машину и, несмотря на протестующие крики низкорослого коренастого капитана, с четвертой попытки, – первые три не удались, – отправили «студебекер» за урез понтона.
В воздухе мелькнули лишь испачканные грязью колеса, где в глубоких вездеходных протекторах шин застряло несколько голышей, почерпнутых на проселочных дорогах.
Русские семьи тем и сильны, что в них никогда никого не забывали, всех помнили, и если какому-нибудь неприятелю надо было дать отпор, также собирались вместе и сообща ломали хребет противнику куда более сильному.
Проснувшись, Максимыч некоторое время не мог понять, где он находится, – слишком уж тихо было все вокруг, было погружено в прозрачную, вызывающую зуд в хребте туманную дымку, пространство было таинственно-лиловым, словно бы пулеметчик находился в глухом рассветном лесу, от неведомого предчувствия у него даже сжало глотку.
Предчувствия на войне играют серьезную роль, в человеке все обостряется, всякий, даже очень малый звук может сказать ему о многом, он вообще может навести на цель, может спасти человека через несколько минут, может, наоборот, убить… война – это война.
Сознание прояснело. Природе от войны достается больше всего, – и как только она терпит издевательства, которые ей подкидывает человек, учиняют его деятельные руки? Воздух тем временем, несмотря на рассветную прозрачность, потяжелел, растерял романтичную лиловость, загустел, впечатление было такое, что скоро посыплется дождь…
Впрочем, ефрейтору Максимову к дождю не привыкать, дождь – это много лучше, чем иссушающая жара или стужа, от которой ломит кости, под дождем расчет Максимова провел столько времени, сколько природой вообще не предусмотрено.
Тут еще одна напасть подоспела – на фронте заботы, пахнущие пороховым дымом или окрашенные в пороховой цвет, в одиночку не ходят, перемещаются обязательно кучно, иногда большим числом, – о подросшем гусенке вспомнил капитан Щербатов, очень ему захотелось, как тем полякам, свежей гусятинки отведать… Давно, видать, не ел комбат, еще с московской поры.
– А что, Максимов, может, не дожидаться нам Берлина и устроить какой-нибудь звонкий праздник? Например, взять, да отметить день Парижской коммуны… Как?
Максимыч быстро понял, куда тянет батальонный и угрюмо, сжимая слова зубами, произнес:
– Этот праздник уже прошел… В прошлом году, летом.
– Вовсе не обязательно, чтобы был день Парижской коммуны, Максимов. Пусть будет день охотничьего пыжа. Или праздник хорошо начищенных сапог. Или день копченой рыбы. В общем, неважно, что за праздник. А гуся твоего, чтобы он не занимал место в обозе, пустим в суп. Ну как идея, Максимов?
– Плохая идея, я уже говорил как-то, – прежним угрюмым, очень глухим тоном проговорил пулеметчик.
Это батальонному командиру не понравилось, он поморщился, будто вместо сахара ординарец положил ему в чай горчицы, расправил складки на гимнастерке, стягивая их под ремнем в одну кучку.
– На фронте, где положено быть предельно дисциплинированным, есть одно железное правило, ефрейтор Максимов, которое не оспаривается ни в суде, ни в нижестоящих штабах, – приказ. Будет приказ – выложишь гуся на сковородку, как миленький.
– На фронте, товарищ капитан, есть вышестоящие командиры, которые отменяют приказы командиров нижестоящих, если приказы эти дурацкие, – глухо и упрямо проговорил Максимыч.
Лицо комбата стало не только морщинистым и кислым, но и покраснело, как зрелый помидор на щедрой кубанской грядке.
– Вы, ефрейтор Максимов, вы… вы будете у меня в первых рядах цепи ходить в атаку… С винтовочкой в руках, без всякого пулемета, яс-сно… – начал выговаривать комбат и захлебнулся, словно бы в довершение обеда проглотил пару горячих гвоздей, в следующую минуту взял себя в руки, выпрямился горделиво, окинул пулеметчика высокомерным, каким-то брезгливым взглядом, поправил воротник на гимнастерке, не совладав с верхней пуговицей, рванул ткань, и пуговица шлепнулась ему под сапоги.
Зло подбивая мысками сапог куски земли, деревяшки, ржавые железки, некстати вылезшие на поверхность, Щербатов ушел. Максимыч проводил его внимательным взглядом. Хотел было даже предупредить, чтобы берег ноги, ведь так он может поддеть мину-противопехотку, но не стал, – разорется еще человек, выйдет из себя…
А комбат на фронте должен иметь спокойную, трезвую и холодную голову: на передовой в любую минуту может случиться что угодно.
Вечером, когда старшины потащили в свои роты бидоны с едой, Щербатов вызвал к себе командира второй роты.
– Слушай, Пустырев, что за человек у тебя в роте числится пулеметчиком? Он хоть за пулеметом своим следит? А то я вижу, он гусю, которого выращивает, чистит задницу чаще, чем пулемету?.. Не перевести ли его в окоп?
– Он и так в окопе находится, товарищ капитан, – сухо, очень вежливо и спокойно ответил Пустырев.
Щербатов снова поморщился: до чего непонятливый народ окружает его! В этом вопросе надо навести порядок.
– А вот как пулеметчик, он чего, со своими профессиональными обязанностями справляется или не очень справляется?
– Считается лучшим пулеметчиком нашего батальона.
– Кто это определил?
– Еще до меня определили, до моего прихода в батальон. И это действительно так, товарищ капитан.
– Тэк-тэк-тэкс, – задумчиво произнес Щербатов, постучал пальцами, как барабанными палочками по столу, с недоброй улыбкой покачал головой. – А ведь он очень бы неплохо в первых рядах атакующей цепи. Со своими медалями. Знамени в руках только не будет хватать.
– Не советую, товарищ капитан, переводить ефрейтора Максимова в рядовые бойцы. В первой же атаке, в которую вы пойдете, вас и не станет.
– Очень похоже на угрозу, лейтенант!
– Никак нет, товарищ капитан! Зная батальон, просто хочу предостеречь вас.
Лицо у Щербатова потяжелело, некоторое время он сидел молча, думал о чем-то своем, потом, вздохнув, махнул обвядшей рукой:
– Ладно, хрен с ним, с гусем этим! Пусть живет и молится за своих заступников. Хотя пулеметчика я загнал бы в обычную стрелковую ячейку.
Пустырев на это ничего не ответил, промолчал.
Погода стояла весенняя, солнышко, похожее на круг домашнего коровьего масла, купалось в золотистой небесной выси, плавало по ней, шевелилось взбодренно; если постоять где-нибудь в укромном углу, в затишке минут двадцать пять, то и загореть можно было до эфиопской коричневы… Хорошо было; всякому солдату невольно вспоминалось детство с его радостями и звонким теплом, с надеждами, среди которых ожидание лета было одно из самых главных…
И что хорошо – в детстве все надежды сбывались, все исполнялись… А вот сейчас, когда вчерашние дети стали взрослыми и даже поседели, постарели, – особенно, когда попали на фронт, – сейчас надежды сбудутся?
Утром в пять часов, когда сырость пробивала до костей, а язык от холода прилипал к нёбу и мешал говорить, вместо отчетливой речи раздавалось какое-то невнятное мычание, бойцы батальона были погружены в новенькие «студебекеры» и вместе со всем своим хозяйством, в том числе и с фурами, переброшены дальше на запад.
Надо заметить, что границу с Германией никто бы из них и не засек, если бы не мутный буйный Одер.
Вода в реке, шириной не уступающей Волге, была грязной, полной мусора, – и чего только не было в желтоватых, радужно поблескивавших мазутом завитках воды, – увидеть можно было все, от плывущих ботинок в празднично-яркой намокшей коробке до деревянного кузова, сдернутого с грузовика и плывущего важно, будто большой одежный шкаф из гарнитура какого-нибудь известного средневекового замка…
Очень уж широк был Одер в этом месте, неужели нельзя было переместиться куда-нибудь в сторону километров на двадцать-двадцать пять, где река поуже? Нельзя. В этом месте проходит самая короткая дорога на Берлин – короче нет.
Немцы вели по реке частый огонь – старались помешать возведению понтонных мостов, снаряды взбивали высокие тяжелые фонтаны воды, опускавшиеся назад, в реку, с грохотом не меньшим, чем сами снаряды.
Но огонь немецкий не мешал саперам работать, возводить понтонные переправы. Вот одна темная металлическая нитка перекинулась с одного берега на другой и тут же по ней пошли танки, следом машины, в основном «УралЗИСы» – главная автомобильная тяга войны, словно бы в подкрепление к ним – сыто пофыркивающие моторами студики, как солдаты называли сильные американские «студебекеры», поступавшие на фронт по ленд-лизу, ставшему предшественником второго фронта, согревавшие солдатские души и головы мыслью, что есть еще страны, готовые протянуть советским людям руку помощи.
– И чего фрицы все кидают и кидают свои чемоданы в реку, батя? – неожиданно обратился к Максимычу при посадке солдат из соседней полуторки, которая через несколько минут въехала на шаткую конструкцию понтонного моста следом за «студебекерами» отдельного стрелкового батальона. – Ведь вон, стоят на нашем берегу «катюши», целях пять штук, вдарили бы пару раз по целям и все – фрицев даже слышно бы не было, не то, чтобы кидать чего-нибудь на наши понтоны.
– Видать, «катюши» для других дел предназначены, иначе бы вдарили. С этим вопросом надо к высшему командованию обращаться, не ко мне, – ефрейтор потыкал указательным пальцем вверх.
А «катюши» действительно стояли под прикрытием ровного, словно бы по линейке выросшего ясеневого леска без дела и чего-то ожидали.
Пареньку в старой выгоревшей каске, испещренной следами прежних ударов, царапинами это дело было непонятно. Впрочем, как непонятно и самому Максимычу – ему тоже хотелось, чтобы «катюши» развернулись в боевой порядок и пару-тройку раз врезали по немецким орудиям, укрытым за линией горизонта, рявкнули бы и все – этого было бы достаточно, чтобы далекие гитлеровские пушки умолкли навсегда.
Тем временем снаряд попал в «студебекер», шедший впереди, понтон просел, от бортов машины полетели щепки, обломки креплений и уголков, с крючьев сдернуты лавки, которые были поставлены поперек кузова.
Кабина мгновенно сжалась, перекособочилась и обратилась в одну большую дыру, наполненную огнем, дымом, яркими брызгами, похожими на стремительный, остро режущий глаза дождь электросварки. Машины остановились. Но ненадолго.
К «студебеккеру» тут же метнулись солдаты, находившиеся на мосту, с дружным «И-и-раз!» приподняли машину и, несмотря на протестующие крики низкорослого коренастого капитана, с четвертой попытки, – первые три не удались, – отправили «студебекер» за урез понтона.
В воздухе мелькнули лишь испачканные грязью колеса, где в глубоких вездеходных протекторах шин застряло несколько голышей, почерпнутых на проселочных дорогах.