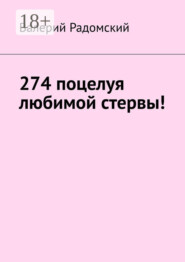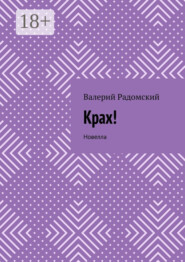По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я – душа Станислаф! Книга третья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, ладонь.
Барчук тут же и пересказал, со слов Волошина, его историю «разборки» с Шаманом (к тому же она подтверждалась, пусть и косвенно, видавшими капитана и на подходе к утёсу, и на самом утёсе, в тот день кедрачами). А став рассказывать о переговорах с Шаманом на противоположном от посёлка берегу, голос его непонятно слабел. И что-то ещё было в его дрожащем дыхании помимо испытанного им тогда страха. Что не ускользнуло и в этот раз от наблюдательного Николаевича.
– …Я не хочу, чтобы его убили, не хочу, даже не зная – почему, – скорее пожаловался Владлен Валентинович, из колобка невысказанных чувств, буквально на глазах переродившись в маленько и толстенького живого человечка с плачущими из сердца словами. – Не хочу! Не хочу! Не хочу! – повторил уже не жалуясь, а возражая и грозясь, в том числе и Николаевичу, хотя тот всего лишь его слушал.
– …Он назвал себя, парень этот, душа…
В этот момент двери в зал приоткрылись, а распахнулись двумя половинками, протяжно скрипнув, от наезда колёс инвалидной коляски – сероглазый юноша, 15—17 лет, кудрявый, но по-современному с коротко остриженными светлыми волосами от затылка, подъехал к Николаевичу. Поздоровавшись узнаваемым – Барчука – голосом, он так и не решился подать незнакомцу свою руку, да тот подал ему свою. Эту довольную, и собой в первую очередь – что тоже мужчина, а отсюда и крепкое рукопожатие от взрослого, – улыбку милого в печали паренька Николаевич, прочувствовав в себе из собственной юности, отдал ему со своего в миг изменившегося до неузнаваемости лица. На нём всё провалилось в глубинную память скорби о Станислафе, и лишь по-прежнему отеческий любящий взор искренне радовался так внезапно …подъехавшей к нему жизни. Пусть чужой, пусть в теле на инвалидной коляске, пусть в несчастье, которое эту жизнь к ней приковало, но – жизнь!..
…Так Николаевич познакомился с Митей, с семнадцатилетним единственным сыном Владлена Валентиновича Барчука и этим разгадал его страдания. Своё же, безмерное, но тем не менее острое и тупое страдание, задавил в себе остатками воли и состраданием …живым отцу с сыном, …живому сыну с отцом.
На очень большом хозяйственном дворе артели, огороженном искрящейся прочностью стали, или из чего-то под сталь, изгородью, Николаевич набрёл на Михаила.
– Вот смотри, Радомский – друг армейский, до чего я дожил, …до чего дожил, – раскинув по сторонам руки, запричитал он, знакомо подав челюсть вперёд и только так по-настоящему злясь. – Ещё весной здесь негде было яблоку упасть. А ведь было: строительный лес – штабелями под самое небо, а рыбы – мама дорогая…, а кедрового ореха – сейчас больше, правда, но почему? …Ты не знаешь!
– Знаю! – отчеканил Николаевич, угомонив звякнувшим претензией голосом в Михаиле раздражение от досады.
– Был у Барчука… – сам себе сказал бригадир, догадавшись, и застыл в позе уродливого креста.
Николаевич подошёл к нему вплотную и опустил ему книзу руки – рано столбить крестом! Удерживая за покатые плечи, лишь понимающе смотрел в озабоченное серьёзными неприятностями лицо состарившегося, как и он сам, друга-танкиста, да гвардеец ефрейтор Чегазов решил всё же извиниться:
– Не хотел я посвящать тебя во всё это. И незачем тебе знать, и не за этим ты сюда, ко мне, добирался – сколько?
– Долго!
Пока шли к конторе, издали похожую на избушку на курьих ножках, только в разы больше, оба пели, не сговариваясь: «На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с разбитой головой».
—
– Пап, …папа, а Валерий Николаевич к кому из наших приехал? Говорит он и так, и не так, как мы. …Не из наших он!
Владлен Валентинович, задумавшись, ответил сыну, тем и выбравшись из глубоких и, в основном, неспроста мрачных раздумий:
– К Михаилу Дмитриевичу он приехал, Чегазову – земляки они, украинцы.
– Ты ему о Шамане рассказывал, …я слышал. Когда ты меня к нему отвезёшь?
– К кому?..
– К Шаману!
– Сынок, Дмитрий, ну что ты такое говоришь?
– Пап, это ты мне ничего о нём не говоришь, но я даже знаю о том, что ты с работы хотел уволиться из-за этого таёжного волка…
Осведомлённость сына только успокоила Барчука – теперь с ним можно поговорить и об отъезде из Кедр. Осенью срок его полномочий, председателя совета поселка, всё равно заканчивается. А осень – уже скоро! Уедут в Москву, и ещё одна попытка поставить парня на ноги – пытка, очередная, да-да-да…, вот только просидеть жизнь в инвалидной коляске – нет, нет, и нет!
– …Ну, так как, пап, покажешь меня Марте? Может, полоснёт своим чудо-когтем по моим ногам и – после догоню её, …догоню, и в морду расцелую.
– Ты и о Марте знаешь?
– Знаю, пап – Игорёша Костромин мне и о душе Станислаф рассказывал. И его тоже хочу увидеть. Ты ведь видел душу Станислаф?
– Видел, как тебя сейчас вижу. Он и говорил тогда с нами, с холма…
– Где маму молния убила?
– Да, там.
– Что он вам сказал?
– А ты знаешь, всё, что он тогда сказал, я помню слово в слово. Уверен, что и Михаил Дмитриевич и Игорёша запомнили также: слово в слово. Эти его слова сначала зажгли во мне желание слушать, чтобы услышать – во, как я заговорил!..
– Да всё путём, пап: я понимаю тебя.
– … А после этого распалили во мне сомнения относительно себя: таким ли я стал, каким мечтал быть в детстве, и того ли достиг, встроив себя, взрослым, в мир, придуманный не мной и, как я теперь понимаю, для меня тоже, но уже без моей детской мечты. Знаешь, сын, душа Станислаф не говорил об этом, но его монолог я бы, обобщив, сравнил с криком-убеждением в том, что земной мир придуман страхом перед тем, что само побуждало познать эти страхи, а познав их – не видеть страх больше и не слышать. Нигде, ни в ком и ни в чём!..
– Так что он сказал?
– … «Возвращайтесь в посёлок и сообщите всем, что мы – не ваши боги, не ваши палачи, но и не ваши жертвы! Мы признаем вас как земное живое, чью вселенскую сущность растащили в веках на атомы слепой веры и молекулы инерционного мышления ваши же боги, традиции и светские правила; оттого вас давно нет, а в вас живёт и плодится лишь то, что от вас осталось: живая энергия чувственного раздрая под контролем смерти. И себе вы уже не принадлежите. Вы – заложники установок смерти. …Себя вы убьёте последними, но вы этого пока ещё не знаете! Как и не осознаёте до сих пор, что, придумав богов и смерть, придумали и Дьявола, а для чего? Себя же и напугали – так он и стал вашей сегодняшней сущностью. Вот его, Дьявола, вы и убьёте в себе, последним и когда-то. А пока вы живёте, продолжая играть со смертью на земное живое, а мы, это земное живое, будем сражаться, потому как вынуждены это делать, за вселенскую жизнь без греха и страданий – и с вами, и с вашими богами». …Он сказал это: земной мир придуман с испугу! И, рано или поздно, его убьют…
–
В сотне шагов от утёса скорби и печали Михаил остановился.
– Дальше не пойдём! – сказал он, как отрубил. – Подождём. Если Шаман сейчас где-нибудь не гоняет лис и росомах, то скоро покажется – ты его увидишь. …Давай курнём пока что.
Утёс нависал над озером, бросив куцую тень на берег, и был хорошо виден, взбудоражив Николаевичу воображение. Присев рядом с Михаилом на толстом бревне, в котором хозяин-кедрач (расположились у крайнего дома) вырубил что-то похожее на места для сидения, он видел в скале разное, да то, что он видел на самом деле – куда как приятней и взгляду, и тому же уму. Может, это и неправильно дорисовывать и проговаривать всяко саму Природу, и от этого, может, люди больше берегут искусство от Природы, нежели её саму, подлинную. Наверное, это так: когда-то всё же убьют окончательно, а прослезятся на живописные картины и подобное о ней и про неё. Себе же и простят, что не доглядели, да что теперь виниться, – отошла Матушка-то!..
– А лис почему гоняет, и этих?..
– Росомах, – помог Николаевичу Михаил с названием зверя, – и не только их одних. Не знаю, правда или нет, но у нас поговаривают, что Шаман не питается мясом. Зырик – Матвей Сидоркин, я тебя с ним как-нибудь сведу и познакомлю, да и самому мне этот доморощенный Моисей нужен, так вот – говорил, что тот одну воду пьёт. А Марта, белая волчица, и рысь Лика – эти охотятся, но так, чтобы Шаман не видел…
Губы Николаевича распрямило неверие, отчего усы стали шире, а бородка длиннее, Михаил это заметил и правильно истолковал перемены в лице:
– …Это от Моисея, …тьфу ты – Матвей Сидоркин мне об этом рассказывал. Понятно?!
– А сам, что думаешь?
– Перед твоим приездом я был в тайге, находил, смотрел и помечал для себя свалы деревьев. Я же тебе говорил – пилить нельзя, рубить нельзя!.. А протопав к ручью, чтоб освежиться – такого я ещё не видел. …Вдоль ручья, по обе стороны, зверьё лакает воду, а его, этого зверья – ряды от тех, кто уже пил. Напились одни – подбежали и стали лакать другие, эти напились – очередная шеренга, а края её и рассмотреть невозможно. И Шаман там был, и он меня, зараза, унюхал – ноздри на его длинной морде так раздулись тогда, так раздулись, …унюхал чертяка! Пролаял что-то, я сразу же – назад, а под жопой уже рысь, и мяукает, и гарчит – жуть! …Да, забыл сказать: а птиц, а птиц! Кругом: на ветвях, в траве, в полёте кружат: света белого не видно. А горлица из под Шамана – сидел он на задних лапах, как впрочем всегда, – вылетала горящим углем: каёмки перьев от спины и на крыльях рыжие, как огонь, и поднималась в небо, завидев ястреба или какую-другую хищную птицу. Я же говорю тебе – чудеса в решете: так драпали от неё, так драпали! А кого догоняла, не могли те с ней совладать, как не пытались – птичка невеличка оказывалась сверху и долбила их бошки. Отдолбила – к Шаману снова, затаилась рядом.
Валера, я зверя таёжного знаю в лицо, …ну, морды их знаю не хуже, чем мужиков из артели, потому меня и здорово изумило и напрягло, что лишь один хищник был среди всех, кого я видел там, у ручья. Это рысь Лика… под моей старой жопой, а Шамана, …Шаман – это не зверь. …А вот и он – гляди.
Шаман прочертив тёмный шлейф на краю утёса, исчез, показался снова – и так несколько раз.
– Что-то с ним не так, – предположил Михаил – круги по плато нарезает, видишь? Обычно между теми двумя камнями усаживается, как мы говорим «попиком» – Матвей Сидоркин его так окрестил, и в таком положении, опустив голову и не шевелясь, сидит по нескольку часов. Если залает, тогда одно из трёх: или Марта, сестра его, примчится, или Лика – я тебе о взрослой рыси уже говорил, или вызовет к себе литовку Эгле…
Николаевич перевёл взгляд…