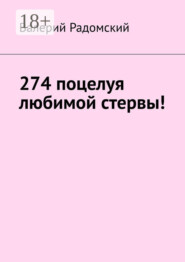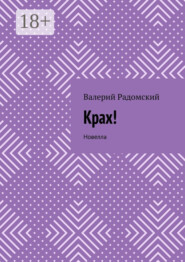По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я – душа Станислаф! Книга пятая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Понимаемая как земной грех гордыня в нём однажды к тому же сорвала его с середины себя и с того самого времени он, в основном, шагал по жизни прямёхонько в пропасть не бог весть каких, но всё же амбиций, понимая, что пройти краем собственного характера ему не удастся из-за нежелания утопить себя в толпе. В одиночестве, в котором самолюбие и самолюбование обычно прячутся, он также побывал, познав глубину падения в крайности и последствия от этого. И выбрался поэтому из пропасти страстей …на характере, да от её края не отходил – в центр себя он намерено зашёл лишь с рождением сына и в довольстве собой и всем пребывал до момента смерти Станислафа. («Центр себя» – это как смещённая в постоянный угол наклона ось Земли, а сам наклон – склонности. Они-то и «вращают» к «свету» и «тени», не успокаивая ни тем, к чему приходишь в определённый момент всего жизненного пути, ни что имеешь на тот момент, когда «срывает»…)
Видеть Николаевича, слышать – это, пожалуйста, вот только Душе хотелось с ним поговорить и выговориться. Страстность этого жуть как одолевала, и он понимал – почему: тот приехал в Кедры с душой, до предела забитой болью. А Душа сам был такой болью. Забитой горем, как сама жизнь забивает порой, чуть ли не до смерти! Но что произошло со Станислафом?! И чьи зелёные глаза открывали рассветы, а закаты лишь сгущали их цвет? Не зная что или не помня об этом, Душа хотел всё же это выяснить. По крайней мере, Николаевич мог помочь ему объяснить многое из земного настоящего и наваждения кедрачей, в частности. В них они были сильны и непререкаемые, однако и уязвимы злом, на которое сами же и охотились.
От Автора.
Тем временем, в Душе сомнениями будет нарастать усталость: а можно ли передумать земное зло, если со зла только и можно свернуть горы?! А сделать это кедрачам было нужно, обязательно, чтобы вырвать самих себя из плена ложных иллюзий о том, что чувство и разум не могут быть заговорщиками. В то же время чувства – это как раз и есть несвобода, а их разум, ищущий тирана, ищет его по их же, людской, привычке: кто угодно, только не я!.. Оттого свобода понимается ими в исключительном качестве сытости. А что напридумывали их страхи и умыслы – это клетка той самой тирании, из которой ещё нужно теперь как-то выбраться, чтобы познать себя вне земной ограды…
Внимательным и усердно слушающим Душа Станислав брёл позади Николаевича, не случайно, берегом, хрустящим мёрзлостью не от его шагов. Сутулая спина впереди уводила в чужое одиночество, а стонущее дыхание болью откровенничало и с ним. Он запоминал, слово в слово, что наговаривали, почти шёпотом, маленькие припухшие губы человечьей печали под поседевшими усами, знакомой ему в ощущениях гнетущей тоски, когда зябко даже в жару.
Слова Николаевича улетали тоской и болью на чёрно-белых крыльях скопы, свистевшей с прозрачных небес о своей готовности парить в открытости неба столько, сколько нужно. Пронзительный свист из-под облаков будто бы выказывал всему земному и заоблачное согласие с тем, что только скорбящая любовь способна на самоотречение от земной тирании, хотя бы материального. Душа внимал откровению небес личным переживанием. Но переживал ещё и за кого-то, и – постоянно ведь!
«…Я удовольствие ловлю, а клёва нет, – кому-то признавался Николаевич стихами, – и красоту то вижу, то не вижу. Быть может, этим мне и дан ответ: я – в промежутке между льдом и стужей, между огнём и дымом, днём и полднем, криком отчаяния и пеленою слёз… Но надо ли мне знать, что мир так соткан: из боли в промежутках наших грёз?!».
От Автора.
А ведь он, Душа, тоже – в промежутке земного времени и пространства, и не потому ли, что мир соткан из боли в промежутках человечьих чувств и ощущений? А что земное не разделяет временной промежуток? …Разум, потому что он есть дистанция между льдом и стужей, огнём и дымом…, всем тем, что познаётся, прежде всего, через страдающую боль. Не боль отваги… Не боль мужества… Не боль героизма и героики, густо и часто, отдельного и коллективного сумасбродства… Когда боль от невосполнимости кого-то или чего-то – вот такая боль, обрушив в человеке сначала крепость его самодостаточности, после забивается в промежуток между днём и полднем, между криком отчаяния и пеленою слёз, становясь, поначалу, мостиком в последующую жизнь, но более рассудочную. И ничего из прежней жизни и что, хорошее, ещё припрятано судьбой не прояснит рассудок лучше, чем в нём это сделает выстраданный окрик души. А значит – душа способна к самовыражению и через категоричность решения. Как стон не бывает бессмысленным и понимается без слов, не нуждаясь при этом в объяснении и в оправдании себя, так ведь и мысль из души додумывается без принуждения. Сама по себе, из чего следует, что мысль из души – первоисточник личного переживания. Не догмы общественного бытия, отравившее напрасными надеждами личное сознание и ставшее вроде имущества в чулане. Но ценность его велика даже не тем, что в ранге – над общественным сознанием, а способностью размыть его до противоположного и обратного. Как смелый, дерзкой красотой, цвет одной лишь нитью в ковре меняет эмоциональную палитру восприятия рисунка в целом, или этой нитью, полоснув по нему, уничтожит ценность ковра.
Хотя это не столько мысль – сколько побуждение, но оставляющее за каждым возможность свободного выбора действия. …Жить, – для кого или для чего? Любить, – себя в ком-то или кем-то дополнить себя? Если даже – убить, тогда: ведь убьют и тебя, за что-то и, без вариантов покамест, ради чего-то. А утверждение и выбор – за личным переживанием. И именно оно, своим трусливым молчанием, приговаривает человека на перерождение в обывателя и поэтому беспристрастного к самому себе. Потому в Душе Станислаф и утверждалось переживаемое им в Кедрах не земным толкованием.
Да, можно жить физической силой и обслуживать самих себя жадностью и злобой, как это делали кедрачи. Тем не менее их плечи, касаясь, не становятся от этого сильнее. Это уже – локти, колкие и завистливые. А протянутые друг другу руки – кинжалы в рукавах, объятия – чаще удушье лести, разговор с языка от рождения раздвоенного ложью, такой же слепой по отношению к себе самой, как и правда. Оттого мечты пузырятся, но не взлетают.
…Что это, отчего это: уже родившись разумными, тем не менее мчим на всех парусах к безрассудству верований? Ведь какими бы они ни были, вера – это парус желаний, но не ветер!.. Отсюда недовольны кем-то и чем-то, но только не собой?! Верить в Бога и не верить в себя – как это?! А выжить среди таких, да хоть быть на расстоянии одышки от них – только занять их активное безрассудство безумными мечтами…
К вылету из себя, расплющенных постоянными желаниями-умыслами до безобразия червей («Ух-ты! Знаю, – удивлялся себе Душа, – что есть лиманы и в них ползают, болотом, плоские черви»), он и побуждал кедрачей. Таёжным волком Шаманом, отобрав у охотников тайгу, а у рыбаков рыбой-меч Иглой озеро, Мартой и Ликой разогнав по домам лесорубов. Эту обязанность в себе он не мог объяснить, равно как и то, что просто знал – кедрачи запросят о встрече с ним, и уже скоро.
Душа и не заметил, как обогнал Николаевича. Тот судорожно курил, не отпуская взглядом белоголовую скопу, кружившую над Подковой. Возвращаться к нему не стал – зачем, если услышал от него то, что в голос не уточнишь, не дополнишь и, тем более, не оспоришь? Хотя не каждый и рассудит, в какое состояние зашёл сам или его завело не зависящее от собственных устремлений обстоятельство – не ошибся он в Николаевиче: крепко держит возле себя умом. Но и не удерживает подле даже почтительное внимание.
Очевидность этого была такой же достаточной, как и неоспоримая привязанность к Шаману. В нём Николаевич обрёл беспокойство, каким его только и можно принять как усладу от горького и терпкого ожидания, что всё когда-то заканчивается. Кому-кому, а Душе это было хорошо известно, лишь с поправкой – лишь для тела! И пока оно имеет силы, чтобы перемещаться в земном времени и пространстве, живое, повсюду, обязательно прилетит или прибежит к нему радостью или угрозой, или…, или…,или…
Что сейчас обрадовало бы Николаевича, – Душа Станислаф об этом не только знал, но и мог ему это дать: Шаман, визжа радостью, стремглав понёсся к тому, кто вырвав из удушливой печали сухонькое тело под овчинным тулупом не со своего плеча, как только услышал свою теперешнюю земную радость, так же само, безудержно, кинулся ей навстречу.
Тимофей Пескарь, ранее не замеченный в праздном пьянстве, запил – смерть дочери Оксаны загнала ему в душу и сердце озлобившую боль и тоску. Там, в сердце и душе, он берёг своё единственное дитя, выросшее умницей и красавицей; выдал замуж – понимал, что не за любимого: Игоря Костромина она любила, – и в этот же день она и замужней стала, и не стало её вовсе. Сгорела, даже пепла не осталось, чтобы хоть что-то от неё похоронить по-христиански. Разве это по-божески: смерть такая и проводы такие в мир иной!?
Осиротевший отец, пьяный больше от несчастья, чем от водки, нутром чувствовал – пёс таёжный, Шаман, приложил свою лапу к случившемуся. Что бы ни говорил пацан в рясе волка, зло – он сам, потустороннее, а возомнил себя Богом. Если Тимофей видел его в кабинете Барчука как бутылку на своём столе!.. …Кто видел Бога? …То-то и оно: никто!
Тогда же, в стенах поссовета, после разговора с Душой Станислаф – хотя какой там разговор: слова своего не вставили! – мужики договорились между собой, что ружья нужно вернуть, хоть тресни. Ракип Жаббаров той же ночью пробрался незамеченным на противоположный берег – там дробовики и карабины, у холма, где и сложили-сдались! А когда хоронили Макара Волошина, охотники друг от друга глаза отводили, и боль по капитану терзала, и за себя стыдно. Когда такое было, чтобы не из чего в небеса выстрелить …почтение и уважение к тому, кого задрал насмерть хищный зверь!
Тимофея изводило ещё и то, что ведь это он повёл кедрачей, озером и берегом, отвоёвывать у Шамана прежнее господство кедрачей повсюду, а в результате теперь под самим у них боком – и голодная к тому же стая рыжего Лиса. О, как всё обернулось! Мужики ещё здоровались, но лишь те, кто с ним ходил на тот злосчастный берег, а бабы – нет, переплюнув за его спиной даже светлую память об Оксане.
Потому озлобленный – переполненный злым горем, как оставленное ведро на крыльце под проливным дождём, и подстреленный несчастьем охотник и отец, надолго уединился в своём доме, не замечая и не слыша Нины Сергеевны, что за толстенной стеной выплакивала своё материнское несчастье. Дни стали длинными, а ночи ещё длиннее.
Слепящий полдень за окном наконец оторвал Тимофея от обеденного стола, за которым ему хотелось умереть, да это мученическое желание лишь обострило память. Вспомнил, что дня три или четыре тому назад, повстречав бригадира Чегазова, обещал к нему зайти.
Набросив на плечи зимник, с непокрытой головой и всё с тем же замученным лицом, он выбрался из дома. Уходил быстро затоптанным переулком, чтобы сбежать от хотя бы скорбного рёва жены, но так неистово в ней плакала, конечно же, мать, что понималось и стонало горюющим отцом в Тимофее. А душа на слёзы скупилась и это тяготило тем, что без слёз горе не выплакать. По крайней мере, так говорят, и то правда: нечем дышать!
Михаил встретил Тимофея на крыльце – курили с Николаевичем. И впервые он огорчился тем, что его армейский дружок сейчас не с Шаманом или не греется у камина в доме Каваляускасов: Пескарь мог сболтнуть об общем собрании кедрачей, на которое решено было пригласить Душу Станислаф. А Николаевич и так зачастил расспросами, видел ли он того, кто проживает в Шамане, о чём кедрачи даже не шепчутся. Михаил отпирался, что нет, никогда не видел, что трёп это всё, признавая – ну, не умеет он убедительно врать! И конфуз вряд ли остался незамеченным…
Зайдя в дом и расположившись в зале, Михаил поторопил Валентину, чтобы накрыла на стол.
Очень скоро в скорбной тишине помянули Оксану, затем Макара Волошина. Тимофей выпил водку, как святую воду, перекрестившись, не осознав даже, что возложил на себя персты впервые. Николаевич, закурив, не отпускал взглядом такого же, как сам, полуживого отца, а заговорил – будто до этого задушевно беседовали, или всё это время он говорил сам с собой.
– Душа не технологична, – изумил к тому же, – а переживая знания и личный жизненный опыт, вдумчиво и потому ответственно, ничему и, тем более, никому не подчиняется. Но и не сама по себе: в ней изначально прописан смысл предназначения человека и его социальных трансформаций. …На седьмом десятке лет, я пришёл к выводу, что человека зачастую обманывает его же ум. И раскаянием, и покаянием тоже. Вот как он понимает душу до сегодняшнего дня, так её и объясняет. А у чувств и ощущений – своя морфология переживаний и бессмертия…
При этих словах Николаевича Тимофей развернул своё квадратное тело к Михаилу, а взгляд спросил: у твоего друга с головой всё в порядке? Тот, оторвав ладонь от стола, приподнял её к плечу, как бы этим говоря – подожди, сейчас он и о тебе скажет, и такое, что с больной головой окажешься ты сам.
– …Потому словами душу не объяснить и уж точно – не унять! Словами, придуманными нашим умом, которые мы знаем и используем в своей речи. …А теперь скажите мне, почему в созерцании мы видим зелёное, или красное, предположим, или что-то ещё какое-либо цветом, да в смятении цвета нами абсолютно не улавливаются?.. Почему сумасшедшая тяжесть на плечах даже не сравнима с непосильной тяжестью утраты?.. Почему, опять же, от удушливого отчаяния свет в глазах – темень средь бела дня? …Так изъясняется душа, не имея ни слов, не запятых, ни точек. Переживания – это её речь, голос, и нам лишь кажется, что мы точно истолковываем душу…
– Да какая разница, кто и как говорит, …если болит! Болит! Болит, …как же болит! – не сдержавшись, вспылили и пожаловался Тимофей, прикрывая ладонями глаза от света…
Такая же самая боль в Николаевича остановила его и безвольно опустила ему руки, словно они уронили на пол то, что уже лишнее и утратило всякую ценность. Только его голова будто бы искала положение при котором глубокий вдох не вырвется из груди предсмертным криком. Лишь после того, как выдохнул долгим хрипом, он посмотрел на Пескаря и смог увить его.
– Душа вас не обманывает, как оболгали кедринские предрассудки тех, кого вы недавно хотели убить. Хотите знать, почему наш ум лжёт? Он – проницательный хитрец – это, чтобы понятнее было. Ему нужны здоровые ноги, то есть наше тело, чтобы, перемещаясь, попадать туда, где требуются решения. Переплыть реку, допустим, построить мост или пойти берегом дальше…
– Чтобы найти место, где стихия сама соорудила переправу?
– Нет, Миша, нет! – возразил Николаевич. – Ему просто нужно попасть на противоположный берег. А как он туда попадёт, это – не главное. Главное – чтобы ноги понесли его дальше, где он выдаст свои очередные варианты решений. Но всегда отвечает за результат душа, потому мы и говорим, что она к чему-то или к кому-то, ну, не лежит и всё! Назовите это интуицией или как-то по-другому, но ум – хитрец: никак не переживает за выдаваемые им варианты предрассудков. Всё – предрассудки, всё! И рассветы, и закаты, не говоря уже о социализации человека и мироустройстве в целом. А проницательный наш ум оттого, что сам же и придумал слово, указывающее на совершение какого-либо действия …перед рассудком: подумай хорошенько то бишь, прежде чем что-то сделаешь. И когда-то человек, трансформированный ими в отчаявшегося безумца потому, что чёрное окажется белее белого, а ложь правдивее правды, сбежит с Земли. Сбежит! Улетит отсюда вовсе, спасая в себе жизнь, лишь зародившуюся на планете. Потому что окончательно поймёт, что туфта это всё: жить во имя и ради!.. Потому, что в духовном развитии человек упёрся в материальное, как лбом в стену из золота: богат! А человек богат разумной душой и, если бы она умела говорить обычными для нас словами, таких слов как война, государства, идеалы и прочее такое же, далеко не бескровное, мы бы вовсе не знали. Душа не религиозна и никакая не социальная. У её времени свои минуты, а у пространства – свои метры и километры.
Михаил с Тимофей выпили ещё по рюмке водки. Николаевич, тряхнув головой, что не хочет, и продолжил:
– В душу не вотрёшь мазь как – в сознание, Тимофей, какой есть ложность и условность всего того, что нас окружает и чем, как нам кажется, мы управляем себе во благо. Мы – лишь завоеватели крошечного, околоземного, пространства и неучи душ. Нельзя приманить к себе земные радость и счастье, заряжая себя же чувствами, как – карабины, пулями и дробью. Жизнь поэтому и проносится мимо каждого, преимущественно, воплем страха и стоном боли. …Отойдите в сторону и уступите озеро и тайгу тем, кого эти, уже давным-давно заплесневелые, предрассудки определили вам в дьяволы. …Они не дьяволы, мужики! Они – внеземное нечто и его нужно сначала познать. Похоже, они попали сюда маршрутом вселенского бессмертия, который наш ум-хитрец тут же решит-проложит технически, как только душа затребует и земного бессмертия.
Сказав это в побудительном тоне, Николаевич подхватил полушубок, оставленный им в углу, кивнул «Честь имею!» и торопливо покинул зал. Он будто бы вспомнил о чём-то и уже – опаздывает!
Валентина всё это время оставаясь незамеченной, тут же проявилась в проёме кухни и суетливо сунула ему в руки свёрток с едой. Отказ не приняла, прикрыв сухонькими руками грудь, как бы этим дав понять – что от чистого сердца! Притянув за Николаевичем дверь, прошла снова на кухню, вдумчиво повторяя только что услышанное: «Нельзя приманить к себе земные радость и счастье, заряжая себя же чувствами, как карабины…». «Ну, Валерка!.. – будто надавило ей на плечи это его, очередное и прямое, откровение и она присела, – Михаил теперь до утра и глаз не сомкнёт».
Ночью Михаилу, действительно, не спалось: переживал за Толика. В очередной раз – не сегодня – озадачил Атос Николаевич, как он называл своего дружка с ещё армейских времён, своими речами. Что ни слово – укол шпагой, если не в сердце, то рукоятью по голове – бабах! Ну, Николаевич! Как же жить с таким-то «вооружённым» умом?! Страшны его откровения, да сын!..
…Выпивать его Толик стал, подал на развод и Михаил знал почему – не догадка, нет! Может, сердце матери и особенное, да отцовское тоже колотится предчувствиями; пьёт сын от одиночества – нет рядом родного человечка: не смогла родить ему жена сыночка или доченьку и сама поэтому не стала ему по-настоящему родной. Не признаётся, что поэтому, а сам вздыхает понятно: своё несчастье решил в одиночестве прожить и никого собой не мучить: сам бесплоден!
Днями раньше Николаевич уколол Михаила прямо в сердце. И жало – ещё одно его откровение, хотя – разве, мог он знать тогда, говоря о себе, что в его личном признании столько боли самого Михаила-отца? Конечно, не мог! Так, не выплакавшим смерть Станислафа, нечаянно и опечалил того, кому признавался в виноватости самим собой.
Эти его слова не забыть – отложились в памяти, слово в слово, строка за строкой, словно память Михаила законспектировала услышанное, по-студенчески, в усердном сопении.
– «Ты знаешь, Миша, – повторно как бы обращался к нему Николаевич (его голос то ли дрожал, то ли скулил – и сейчас тоже), – сын-то мой родился не от намерений дать ему жизнь, а от моего банального желания получить сексуальное удовольствие от молоденькой девушки. Да и она сама хотел быть лишь желанной. А родился потому, что!.. И вот эта случайность полового акта и безответственное удовлетворение похоти, пусть даже в согласии на него, как бы решившие приятностью сам жизненный эпизод, не явились ли они причиной его обречённости на скорую смерть? А сколько таких – может, и через одного, – кто родился в результате разбазаривания мужского семени и раскидывания под него женских ног! В любви и не любви, в насилии и – по-всякому, чтобы ни глаз не открыть, ни слово сказать!.. Ведь если смерть живёт в человеке, а где ей ещё жить, тогда она при любом удобном случае обязательно заявит о себе и собственно смертью или недоразвитостью и увечьями, бесплодием и наследственными заболеваниями. Да та же неуёмность во всём, что приманивает удовольствием желание, им же способна прикончить или наказать, причём жёстко! Откуда взялась эта губительная неуёмность, если не выползла из дремоты блаженства! Мне кажется – зарождение земной жизни может быть и страстным, но обязательно осознанным.
Посуди сам: ну, что есть земное время человека. Тот же будильник, условно говоря, и чем чаще мы его заводим, и аккуратно – это важно тоже, тем меньше вероятность, что он остановится. Вот когда мы осознанно дополняем себя рождением ребёнка – это и есть завод родового биологического механизма на прочность и долговечность.
Мы уже говорили с тобой на эту же тему: рожаем – убиваем, снова рожаем – умерщвляем!.. Только в это раз я говорю о судьбе. Судьба – не злодейка, Миша, ею могут быть и последствия мига не осознанного зачатия жизни. Ты можешь возразить мне, а как же звери и прочие божьи творения? Вот они-то как раз и демонстрируют, зачем и для чего ищут самку или самца. Не для удовольствия, – это уж точно! Мы же, люди, процесс воспроизводства себя упростили до счастливой вероятности оплодотворения, и это – в лучшем случае. Как бы: что будет, то будет! Более того, понимание «здоровый организм» и «здравый смысл» – здравый! – возраста и самой функции деторождения свели к оргазму. И вот я, зачавший жизнь своего сына, даже не думая о нём, потому, может, и не дал ему достаточной силы выживаемости. А такая сила есть, Миша, есть!
Грубый, конечно, пример, но это как заправить автомобиль на полдороги или и того меньше. И бессознательность сексуального удовольствия, в смысле – к чему она может привести, приводит, к трагедиям в той жизни, которую ум не наблюдает в момент блаженного соития-зарождения и, естественно, не оценивает, а всё ли на месте, как говорится? А так как сознание в нас не закончено, как тетрадь с огромным количеством страниц, и не изучено до конца, то есть находится в процессе дальнейшего формирования, а всё, что в нас – в не сознания может ведь сотворить некондицию. …Непозволительно так говорить о новорождённом или новорождённой, а мне, отцу, как больно от таких сравнений, тем не менее безрассудность в любовных и постельных делах уже сотворила земную серийность рождения людей, метафорично – искр от огня.
Если наблюдать за искрой, то мало кому придёт в голову мысль, что огонь ведь выбрасывает её из себя и она даже при сильном ветре не залетает снова в костёр, а её полёт и горение – то же самое, что судьба, только стихии. Так и люди-искорки: зажглись жизнью, шагнули в реальность – кто далеко, кто близко, но они всего лишь искорки живого и разумного. Искорка способна обрадовать, впечатлить, обжечь, поджечь даже и быть похожей при этом на падающую звезду, да как состояние жизни лишено устойчивого покоя души, который организует один лишь ум. Есть ещё люди-дым…, люди-блик…, люди-жар…, но крепки и устойчивы жизнью лишь люди-пламя. Те, кто горят жизнью, но не сгорают в ней от безумства желаний и возможностей.
…Сейчас заплачу, но скажу: мой Станислаф не должен был родиться, потому и умер. Он спешил жить. Не повзрослеть, нет, чего обычно хотят до взросления – спешил: и то сделать побыстрее…, и таким…, и так…, будто знал, что у него мало времени и потому старался во всём прыгнуть выше собственной головы. Я это давно подметил, но убедился, что прав, лишь после того… А такие, как он, кто выжил и живёт – земные страдальцы! Такие страдают обычно жизнью потому, что их родила случайность, которая на протяжение всей жизни, короткой или же соразмерной земной-человеческой, обрекает на неприкаянность в самом себе. И я – один из них! По себе сужу: страдания – это больше мыслительный процесс, своего рода – полёт искорки, хаотичный и трепещущий светом и цветом, борясь так за земное время и пространство.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: