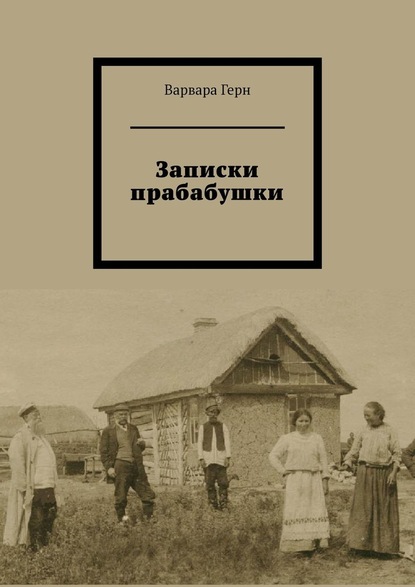По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки прабабушки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Записки прабабушки
Варвара Герн
Эта книга – воспоминания Варвары Дмитриевны Герн, провинциальной дворянки, дочери отставного военного, жены скромного помещика, матери хороших сыновей и дочерей, сохранивших несколько рукописных тетрадей. Записи доходят до 1916 года. Своеобразный, живой стиль автора сохранен полностью, орфография, характерная для среды и эпохи, почти не тронута. Интересно следить, как важные и грозные мировые события отражаются в жизни дружной благополучной семьи.Публикацию подготовила Н. Доброхотова-Майкова.
Записки прабабушки
Варвара Герн
© Варвара Герн, 2020
ISBN 978-5-0051-5981-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Маленькое пояснение
Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, всего-то прабабушка, закончила свои воспоминания чуть больше ста лет назад.
Нам их отдали, когда в 2019 году скончалась внучка Варвары Дмитриевны, Татьяна, в возрасте девяноста семи лет, а вскоре умер ее брат, наш дядя Юра, ему было девяносто пять. Отдали, потому что у нас есть потомки, хотя Гернов среди них и нет. Фамилию Герн носит последний из ее внуков, Олег, ему 80, как и мне. Он живет в Ульяновске, мы посылаем ему распечатки.
Первоначально рукописная книга, довольно толстая, хранилась у дочерей Варвары Дмитриевны, Юли и Вари, незамужних, бедных до крайности, очень дружных и добрых. Когда-то они работали в больнице для психически больных детей в Лосинке, потом доживали на одну пенсию в половине стеклянной терраски. В другой половине жила бабушка с нашей мамой, Таней и Юрой.
Мы и наши дети очень любили бывать у «теток» в Лосинке.
Ради их памяти мы и затеяли расшифровку Записок. А потом оказалось, что это страшно интересно: время, город, человек. Смешно было многое, но Мама сразу внушила огромное уважение. И дочь не подвела! Резвая девушка стала серьезной, ответственной женой и матерью…
Не интеллектуалка, просто умная! И что особенно приятно – стихийный либерализм дворянской среды.
Начинаются «Записки прабабушки» в 1910 году, в это время она переживает за своего «первенца», нашего деда, который уже три года в крепости. За свои убеждения. А деду был тогда 21 год! Значит, взяли совсем мальчишкой… В пятом ему было 16. Успел хоть чем-нибудь покидаться во время революции? Говорят, в тюрьме он учил языки.
С самого начала расшифровки я помещала ее в ЖЖ, в надежде, что друзья и подскажут, и поправят, и помогут. Правила публикации разъяснила odna_zmeia (Наталья Соколова); mingqi (Аглая Старостина) сразу вычислила «город Ефремов» и как туда можно было добраться, пока не провели железную дорогу, и что случилось, когда ее провели. Неожиданно выяснилось, что многих друзей и знакомых В.Д. знает Википедия, а более скромных – Губернские ведомости и другие источники. Легко находятся генералы и даже штабс-капитаны. Сложнее – учительницы и врачи…
Нашлась масса интересных сведений (Поместья, Железные дороги, разные великие люди, врачи и генералы, Настя Пиотровская и так далее). Мы их помещаем в Приложение. Есть вещи удивительные сами по себе, например судьба Насти, ближайшей подруги В.Д., к сюжету они отношения не имеют, но жалко бросить разведданные… пусть хранятся в подполе.
Обидно, что так и не удалось расшифровать инициалы близкого родственника (свойственника) героини, он возникает на первых же страницах и держится до конца – возможно, он ее пережил (малоприятное лицо). Рудвинский Ан. Ад. – это «Ан. Ад.» страшно меня раздражает! Мысленно я называю его «Адамычем» – он поляк – а вот Андрей он или Антон?
Н. Доброхотова-Майкова
Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, начала писать эти воспоминания в 1910 году. Кончаются тетрадки осенью 1914 года. Умерла В. Д. в 1916 году.
Мои воспоминания за 40 лет
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УЕЗДНАЯ БАРЫШНЯ
Давно уж хотелось мне записать все прожитое мною, за мою долгую жизнь, много было всего хорошего, и худого, особенно не баловала меня жизнь за последние годы, тяжко отразившиеся на всем укладе нашей семейной жизни, и теперь еще переживаю тягостное отсутствие моего первенца. Тяжело ему досталось на долю, в юные годы сидит в крепости, еще не так тяжело сиденье, а как произвол лиц администрации, произвол у нас теперь во всем, темные силы и темные лица торжествуют победу над побежденными.
День и ночь думаю о тебе, мой дорогой сынок, дождусь ли я того радостного дня, когда ты будешь со мной! Уже три года почти, как несешь ты кару за свои убеждения, и три года мать твоя ни разу не заснула с облегченной душой. Тяжело мне, а главное то, что несправедливость убила у меня веру в Провидение, я из верующей стала не верующей. В начале несчастья, я горячо молилась и верила, что Господь услышит мои молитвы…
Нет справедливости ни на небе, ни на земле!
Город Ефремов и Архангельское
Хочу постепенно возобновить в своей памяти разные события и рассказать, что удержалось в моей памяти. Начну с детства своего, хотя оно совсем серенькое и далеко от теперешнего уклада жизни. Родилась я в небогатой семье отставного капитана, почти старика, от второй жены, и была первенец; у него от первого брака не было детей, и я то родилась после 5 лет бездетного брака и была страшно жданное дитя у обоих родителей; отец был отставной раненный офицер, мать бедная дворянка, дочь ветерана 12 года; после меня родились три брата, один из них, Вася, умер 1? годовалым. Жили мы в уездном городе в Тульской губ. в собственном доме, и жили хотя не богато, но зажиточно, отец много помогал семье моей матери, у которой было три сестры, одна Анна замужняя, а Елизавета и Лидия девы. Отца я плохо помню, помню, что он был полный, с черными волосами и рыжими усами, и всегда ходил в военном сертуке, был веселый и отзывчивый человек, много у него было приятелей между чиновниками, почтмейстер, казначей, смотритель училища, старый городской голова; как сейчас их помню – теперь уж нет этих типов, много смешного они из себя представляют на современный взгляд, но много и симпатичного у них было; как много было простоты, но задушевной простоты, в обыденной жизни наших стариков. Собирались вечерами друг к другу поиграть в ералаш, все было просто, без церемоний, придут вечером с фонарями, поговорят, поиграют в картишки, и мирно плетутся во свояси. Например такая картинка, отец в своем военном сертуке стоит перед окном в зале, кепе лежит на столе, также табакерка и носовой платок, смотрит в окно, это он ожидает, когда на почту пойдут, смотрит головы, и увидя их, надевает кепе и сам идет туда, это значит привезли почту, а ходила она два раза в неделю; идут приятели к приятелю почмейстеру читать «ведомости», ибо их в городе никто не получал, были дороги и редки, выписывались газеты помещиками только, и вот друг почмейстер устраивал у себя чтение; почитают и вечером смакуют прочитанное, отец воодушевляется и вспоминает свои походы.
Отец как-то вдруг из бодрого мужчины стал хилым; время его болезни у меня как будто больше в памяти, он реже стал уходить из дома, сидел в гостиной на диване и раскладывал пасьянс; раза три в день уходил в спальню и подолгу молился перед древней иконой Казанской Б. М. Вечерами я и брат Миша, его любимец, придем и сядем около него по бокам, сидим в потьмах и он рассказывает сказку, бесконечную, про солдат и чертей, а мать возится с младшими братишками, прижмемся к нему, слушаем, а надоест слушать, пристаем с разными вопросами, пока не надоедим ему и он закричит матери: «Мать возьми их!»
У отца была любимица, дочь тети Анюты, она и крестница его была, в то время ей было лет 18, отец очень любил, когда она ему читала. Помню, как заболел отец, это что-то было ужасное, болезнь началась икотой, он так икал, что проходящие мимо останавливались, слышно было на улице. Мама рассказывала, что он объелся печеных яйц, которые он ужасно любил, много лечили, но он так и не оправился, страдал года 1? и умер, по всей вероятности от рака, так как питаться совсем перестал, все была рвота; умер он когда мне было 9 лет, за год до его смерти умер и братишка Вася. Мать поистине была мученица, мы маленькие все, отец тяжело больной, капризный, минуты без нее не мог быть, она должна была быть постоянно при нем, а там мы. Уже незадолго до его кончины к нам приехала тетя Лида, но отец то ее кажется не очень любил, он из всех сестер матери любил очень тетю Анюту, да кто эту чудную женщину не любил, это была мученица, но как кротко и терпеливо она несла свой крест, с какой верой молилась и во всю жизнь свою никому не сделала больно, никого не оскорбила; у меня крест не менее тяжел, но в другом роде, и я не могу быть так незлобивой как она, и кажется мне тяжелей, чем ей, потому что она верила глубоко. Умер мой отец в ночь и я была разбужена воплем матери и сама закричала, ко мне бросилась рыдающая мать со словами: «Сиротка моя бедная!» Обняла меня и показала отца лежащего на диване (долго я этот диван берегла, теперь пришлось его бросить) с рукой на лице, говорят, что это он крестился и так умер не донеся пальцев на лоб. Помню его лежащего на столе, помню, как нас одели в черное с белыми плерезами, Миша все обращал мое внимание на свою черную рубашку с белой тесемкой, а мой траурный наряд, это было что-то ужасное, длинное до самой земли платье с кофтой, белый коленкоровый чепец с большой оборкой и черной лентой, на шее огромный черный платок, концы которого спускались до полу, мать в точь-точь таком же наряде. Помню, как несли отца, нас почему-то посадили не в наш экипаж, а в соседский, меня силком посадили к матери, а Сережу помню вели пешком до самого кладбища и мне было жалко на него смотреть, как его, крошку, вела за рученку некая Ольга Васильевна. Помню и трапезу после похорон и убитую горем мать, которую прямо оберегала Ольга Ивановна, добрая, хорошая барыня, мама до конца своего, всегда с благодарностью вспоминала ее, именно тот человек и дорог, с кем переживается тяжелая страница жизни. Больше об отце ничего не могу сказать. Мама его очень уважала, хотя рассказывала, что замуж выходила не любя, долго не соглашалась, но жизнь у нее была тяжелая, их было три сестры и одна замужняя с большой семьей и ее <нрзб> мужем, который в молодости был ревнив, а потом горький пьяница, бедность большая, хотя были крепостные, Лида и Лиза с невозможными характерами, вечная ссора между собой, вечная брань с крепостными и пьянство зятя и брата Павла (кстати, которого звали Дмитрием, но бабушка не брала ему бумаг, а оставила бумаги умершего сына Павла, мы все звали его «дядя Паша», только на похоронах его, куда меня взяла мама, я с удивлением услышала: «раба твоего Димитрия!»), так вот такая обстановка заставила маму выйти замуж, она всегда говорила, что не раскаивалась, она искренно полюбила его за его чудный характер и уважение, которым он окружил ее. Как курьез, она рассказывала сватовство отца, которое я и расскажу, оно типично, по нынешнему пожалуй и смешно! Отец овдовел после 23 (5?) -летнего сожительства с женой немкой, он в то время еще служил инвалидным начальником и как говорится, дом у него был полная чаша, и решил после 40 дней смерти жены жениться, сватали ему много девиц, но его выбор остановился на маме (мама была хороша собой и ей тогда было 27 лет) и еще одной девице Голиковой; отец помолился и лег спать с такими словами: «Пусть Наталья Егоровна мне сама укажет, на ком из этих девиц жениться!» Видит во сне, едет он с Н.Е. в карете, а по обеим сторонам кареты, справа идет мама, а слева Г.. Н.Е. указала ему на маму. Видно, ложась спать, больше думал о маме. Утром вставши, поехал в собор, отслужил молебен и вернувшись домой, послал за тетей Анютой, которой и объявил о своем желании жениться на маме, та и ног под собой не чуяла от радости и спешит с этой радостной вестью домой, а тут мама запировала:[1 - заскандалила (тульское диалектное) (здесь и далее примечания публикатора)] «не хочу, и точка!» В голове страстное желание уйти тихонько в монастырь, даже говорит: «постоянно мечтала, как встану ночью и уйду!» Пошли уговоры, послали за тетей Лидой, которая жила у своих приятелей Левшиных, прося ее и гг. Л. уговорить маму не отказываться от счастья; долго она не соглашалась, но после долгого раздумья да еще очень хороших домашних дрязг она решилась выйти и не раскаялась все 15 лет прожитых с отцом. Мама моя была очень умная, энергичная женщина, весьма молчаливая, осталась с нами малолетками 39 лет, прекратила всякое знакомство, занялась нашим воспитанием, пригласила гувернантку и началось наше воспитание, что учение не было достаточным, это факт, но нравственное наше воспитание было отличное; она сумела внушить нам честное направление. Да, моя мама тихо и скромно совершила свой долг, спасибо ей большое, себе она буквально во всем отказывала, жила нами и для нас, но держала нас весьма строго и мы боялись и не смели ей перечить ни в чем и боялись огорчить ее, кроме нашего воспитания она много помогала теткам, давала на ученье двоюродным, Машу[2 - племянницу, дочь тети Анюты.] любила очень и еще давала приют трем безродным старухам, хотя доходы у нее были небольшие, а как то ухитрялась жить и сводить концы с концами. У нас жили, кроме тети Лиды, две вдовы и одна старая дева; помню, как раздвинут стол и сядем все вечером, то вся комната занята, такая картина: длинный стол, две сальных свечки по краям, мама сидит и шьет, около Миша, Сережа на столе сидит на шкатулке, я, Маша (когда не жила в деревне, где она часто жила у одной помещицы), гувернантка Анна Ивановна, дочь Ольги Ивановны, которая во время смерти отца была единственной маминой утешительницей, тетка, приживалки, нянька Анна Афанасьевна – и непременно задом к столу, чтобы свет падал на чулок, который она вечно вязала, все с работой и все с рассказами, у каждой непременно сверхестественный, с привидением, с колдовством; мама никогда не принимала участия в этих рассказах, редко когда рассмеется на смешной рассказ, мы дети дрожим от страха, боимся выйти в следующую комнату, особенно Миша, тот прямо ревел от страха, когда А.И. посылала его за чем-либо. Миша ни за что не идет. А.И. начнет спрашивать: «Чего ты боишься?» «Там Адам и Ева!», отвечает Миша. Почему именно Адам и Ева, он не мог объяснить. А.И. берет его за руку, ведет и освещает стены, показывая, что там никого нет. Да, прослушав те рассказы, невольно волосы шевелились на голове, я хоть очень храбрилась, но душа в пятки уходила часто. Вот и таким образом вечер кончался.
Сережа засыпал на своей шкатулке, мама уносила его в спальню, немного погодя валился Миша, этого уносила тетя и раздевала. Миша был крупный мальчик, а Сережа больной, жалкий, доктор говорил, что он недолговечен, и мама его страстно любила, возилась с ним сама, и он был страшно избалован, меня же мама держала в черном теле, заставляла много работать, что для меня было большим наказанием, я была веселая, живая, непоседливая, тщедушная некрасивая девочка, училась хорошо, Миша же был ленив, очень упрям. Садились мы за ученье в гостиной в 8 часов и занимались до 12 часов, в 12 ровно подавали обед, который был больше скромный, щи да каша с молоком, а в Праздник только жаркое и пирог; часа в 3, когда была лошадь (это еще при жизни отца, после него мама скоро продала лошадь и экипаж) ехали к теткам, а потом ходили, куда мы весьма охотно отправлялись, нам там казался другой мир, хотя там была страшная бедность, но всегда веселей нашего и свободней, двоюродные показывали нам всевозможные фокусы, учились они в городском училище, и нам казалось, что они все знают. Часа два пробывали у них, там домой и вечер вроде того, что я описала, 8 часов мы уже ложились спать, все трое вместе с матерью в спальне, но я долго прислушивалась к чтению А <нны> И <вановны> и Маши в соседней комнате, так прослушала «Войну и Мир» и еще похождения Рокамболя, читали они много, но эти только сохранила в память.
В субботу у нас зажигались лампадки, и я очень любила (да и теперь люблю тихий свет лампад, так тихо, мирно делается на душе, но три года уже не зажигаю, нет у меня света и мира на душе, и я не хочу этого света, больно от него теперь мне), все сидят без дела и ведут мирные разговоры в полутьме трепетного света, даже неприятно, когда мама скажет: «Няня, зажги огонь!» – бежим к няне и смотрим, как она обжигает свечи, нравилось очень, как она зажжет, потушит и снова вздует огонь. В Воскресенье идем все к обедне в собор, бывало ужасно надоедало стоять, жарко, шуба давит плечи; летом мы любили ходить, особенно на кладбище, к обедне, а потом к отцу на могилу. Так без особенных событий прошло два года, в течение которых мы ездили раз во Мценск Богу молиться, отец обещался больным, что как оправится, так поедет к Николаю Угоднику во Мценск, мама свято решила исполнить его обещание и вот мы поехали на лошадях, 120 верст Мценск был от нас, по дороге заезжали к знакомым помещикам, Пиотровским и Зелинской, туда где часто гостила Маша, памятно мне только из всей поездки то, что у меня страшно разболелся живот и то, что у Зелинской Авдотья Дмитриевна <нрзб> рассказывала, как крестьяне целую семью своего помещика сожгли, семья была человек 8, сей помещик был из кровопивцев, доконал крестьян, и они его сожгли, обложили дом соломой и зажгли, кто покажется у окна, отпихнут, так и сгорело 8 душ, жутко было слушать этот рассказ, у меня поджилки тряслись. Ездили мы все, Маша и Коля. Анна Иван., прожив у нас два года, заявила, что не хочет у нас жить, ей вышло место в Москве к купцам, с которыми она должна была ехать за границу, сколько слез было пролито вместе с нею, ей жаль было нас и хотелось повидать свет. Отъезд ее целое событие в нашей жизни. Через два месяца у нас была новая гувернантка «Адель», только что с институтской скамьи, очень хорошенькая и очень пустенькая, после А <нны> И <вановны>, которая была умна и занималась с нами хорошо и вдруг такая пустельга – учить не могла, мы у нее все списывали с книги, а она вертится против зеркала или сидит на окне и перемигивается с полицейскими чиновниками, полиция была напротив; пробыла она у нас недолго, с Мая по Октябрь, и вышла замуж за учителя городского училища, субъэкт сей влюбился в нее, но субъэкт был ужасный, никогда не питался своим, а все ходил по ученикам или должникам, давал деньги в рост, через теток он познакомился с нами и являлся обедать чуть ли не каждый день. Одна из наших приживалок, Анна Николаевна, вдова инспектора, женщина с образованием (поздней она поступила во вдовий дом, у нас же проживала в ожидании там вакансии) много говорила с Адель о этом учителе, рассказывала, как он жаден, как скверн вообще, на что Адель отвечала: женится, переменится.
Выскочила за него наша пустельга, не подумавши, радовалась его подаркам, и верно скоро раскаялась, он ее запер со дня свадьбы, мы только раз их и видели у себя в Ноябре, и с тех пор не видали, рассказывали, что он когда уходил в училище, ее запирал на замок, квартира же была на краю города в хибарке, без прислуги. Венчалась она 9-го Октября, это событие в памяти у меня; день был чудный, теплый. Одели ее в белое кисейное платье и фату, она выскочила на крыльцо, перед которым собрались соседские кухарки, горничные, дворники, вертится и спрашивает: «Хороша я?» Тетя Лида кричит: «Бедняжка, иди в комнаты, чему радуешься?» Вбежит и сейчас же в окно, там полицейские ей делают ручкой. Наконец приехал шафер и повезли ее в церковь в карете, мама поехала с нею и Миша с образом, я и Маша сзади на извозчике, и вот и весь поезд.
В ноябре появилась у нас новая гувернантка Марья Васильевна, но прожила не долго, в Январе уехала, она была помещица, и говорили, имела связь с соседом женатым и поссорилась ним, он был несколько раз у нее и за ней присылал. Гувернантка была плохая, ничего она нам не дала, А <нна> И <вановна> стояла высоко над ней, казалось, у нас уже такой и не будет, и как мы были рады, получая от нее из за границы письма, и мы мечтали, что она вернется к нам, на это было похоже, но увы, она по приезде из за границы вышла замуж и невестой гостила у нас, вышла замуж за помещика и весьма неудачно, он все прокутил, десять лет она ездила с ним, содержали театр в Харькове, в Москве меблированные комнаты, и в результате, благодаря родственникам, она назначена начальницей нашей прогимназии, где прослужила 30 лет и только два года тому назад скоропостижно там скончалась, мне писали, как хоронили эту замечательную женщину, ведь воспитала она несколько поколений, оставила по себе память, писали мне, что собор не мог вместить всех молящихся за нее и панихиду служили на площади.
Немного уклонилась я в сторону, но мне хотелось посвятить строчку этой светлой личности, которой связано мое детство, юность, и с которой я переписывалась до самой ее смерти. После отъезда М <арии> В <асильевны> мама решилась ехать в Москву за гувернанткой, туда в то время из нашего города до Тулы было на лошадях, а уж из Тулы по железной дороге, вот мама, Маша и Ав <дотья> Дм <итриевна>, одна из наших приживалок, старая дева (поехала искать себе место экономки в Москве, не имея души там знакомой и имея 30 р. только денег), в Феврале они отправились в Москву, мы же остались с тетушкой и нянькой дома, остальные наши приживалки тоже куда-то разъехались. Без мамы мы оставались в первый раз, тоска страшная, тетушка нас муштровала, обладала она страшно тяжелым характером, эгоистична была, ругалась, как извозчик, и к тому ж ревнива была, если заметит, к кому мама относится хорошо, сейчас вообразит, что ее сживают, мания преследования у ней была, и вот она всеми правдами и неправдами начнет выживать того человека от нас, таким образом выжила от нас Ав. Вас., приживалку вдову, очень неглупую старушку лет 70, именно за то что мама любила советоваться с Ав. Вас. Устраивала такие сцены, что мы дети дрожали от тех ругательств, мама терпит, терпит и скажет: «Чего ты бесишься?» Этого достаточно, начнется что то не вообразимое, крикнув все возможные обвинения и ругань, она уходит к тетушкам, живет там несколько дней, мама волнуется, тоскует, часто сцены были за Машу, хотя она любила Машу, но требования к ней предъявляла невозможные, Маша должна была за что то просить прощения у нее и целовать руку, не зная вины, поздней она проделывала и со мной такое. Много ругала Александра II, что он разорил их, по миру пустил отняв крепостных, мама только скажет: «Отлично сделал, отняв лодырей у Вас, да руки Вам укротил драться!» Ну и довольно, тетушка убежала; тоскливо, скверно на душе у всех нас; смотрим, через несколько дней тетя является, так как у тех тетушек перекусить нечего, да Лиза подобие этой, они переругаются, изощряясь друг перед другом, и в конце пальма первенства за нашей, а Лиза только уж может говорить: «ба-ба-ба!», не находит уж больше слов. У нас же Лидия хозяйничала, величалась, мама терпеливо сносила деспотические наклонности; хотя такие сцены повторялись по несколько раз в год, но каждый раз скверно отражались на маме и нас; позднее она уж не убегала, но делала еще хуже, замолчит, ни чай пить, ни обедать не выходит, суток по двое ничего не ела, сидит в маленькой комнатке на сундуке, ничего не делает, глаза уставит в одну точку, лицо злое; на нас это еще хуже отзывалось; мама зовет обедать, молчит, иду я, молчит, прислуга подходит, молчит. С тоской показываю ей, мама зовет ее чай пить, говоря: «Завтра, Елизавета Никол., займетесь, а теперь идите греться!» Из себя Е <лизавета> Н <иколаевна> была высокая, немолодая блондинка, одетая через чур бедно, выражение я тогда не могла разобрать, на вид скорей нянька, чем гувернантка, против тех, бывших у нас, она сразу казалась не умной, (оказалось потом, что она была вроде помешенной, и как мама взяла ее, не понимаю!) Прямо верно испугалась вроде Ав <дотьи> Дм <итриевны> Москвы, хотя с отцом она два раза была в Москве).
Ну, вот началась наша жизнь с новой гувернанткой, а так как в нашем городе два или три дома имели гувернанток и учиться не у кого было, то к нам приехала богатая купчиха и просила разрешить Е <лизавете> Н <иколаевне> учить ее двоих детей, Лизу и Петю (А <нна> И <вановна> тоже, кроме нас, учила троих дочерей исправника). Лиза и Петя стали ездить к нам на уроки, наша ментор ни бельмеса, пишем с книги, а уроки заказывает: «С этих до этих!» Я хоть добросовестно учила, а Миша и вовсе не учил, плетет бывало что то, где и «дура Е <лизавета> Н <иколаевна>» слышится, а она моя голубушка на все отвечает: «Хорошо». Мы с Лизой фыркаем от смеха. Так продолжалось с месяц, наконец мама начала говорить: «Е <лизавета> Н <иколаевна>, Вы портите детей, мальчик Вам Бог знает, что врет, а Вы на все «Хорошо». Не помню что она на это говорила, а кажется тоже «Хорошо» сказала. Я вижу, что мама печалится очень, тетка издевается над Е <лизаветой> Н <иколаевной>, рассказывая анекдот про архиерея «Хорошо». Маша старается сойтись с Е.Н., Ав. Дм. тоже, а она сидит целый день сычем, только раз она почему то вышла из апатии; у нас были хорошие знакомые поляки Алек. Антон. Пиотровский и его управляющий Ан. Ад. Рудвинский, бывали они часто и вот однажды приехали. Мы сидим за уроком, или верней сказать сидим и списываем с книги, (до чего это списыванье мне надоело) она спрашивает, кто это там? Я, сообщаю, и вдруг моя Е <лизавета> Н <иколаевна> начинает их ругать, да как: «поляки, лицемеры, изменники!» Конечно, теперь я бы поняла, что особа эта ненормальна, а тогда удивленная рассказываю маме, и конечно не получила от мамы никакого разъяснения. Прожила она у нас 1? месяца, и мама отправила ее в Москву и мы снова без руководительницы, а Миша был уже назначен в Орловский кадетский корпус, мама волнуется, а с отъезда А <нны> И <вановны> прошел год, в течение которого мы только списывали с книги, боится, что Миша не выдержит экзамена, посылает дядю Андрея, мужа тети Анюты в духовное училище, чтобы кто из учителей пришел нас проэкзаменовать, приходило два учителя, но в разное время, экзаменовали меня и Мишу, а что сказали, не помню. Миша короткое время ходил заниматься к одному из этих учителей. Около 20 июля мама решилась ехать в Орел, и поехали мы все, она не могла с нами расстаться на целый месяц, с нами поехала и Маша, до желез. дороги ехали мы на лошадях 50 верст, пред отъездом ходили к отцу на кладбище, брали икону «Смоленской Б. М.» домой и отправились. Что чувствовал 9летний Миша не знаю, он был всегда скрытен и молчалив. Приехали на станцию ночью, ст. называлась «Расошная» и около 12 часов пошли садиться в вагон, я вышла за Машей, и по близорукости от роду невидавшей поездов, не зная как садиться, я оборвалась с проножки вагона, ужасно расшиблась, искры из глаз посыпались, говорю Маше: «Убилась я, встать не могу!» Она отвечает: «Ну, так умрешь!»
Что за ответ был мне, ребенку, у которой нога почернела как котел (утром я уже увидала), я стерпела боль и даже не заплакала. Поехали, братишки заснули, а я всю ночь не спала, больно мне, и интересно ехать. Мама все всех расспрашивала про Орел и корпус, и вот какой то священник посоветовал ей обратиться к воспитателю Бейдельману и дать ему.
Поездка в Орел
Рано утром мы приехали в Орел, извозчики привезли в гостиницу, и что это была за гостиница, грязь была страшная. Мама говорила Маше, что она не может быть в гостинице, дорого, а пойдет искать квартиру, что и сделала сейчас же после чая. Я и Маша остались, а она забрав братишек ушла к корпусу, побродив около, она подошла к игравшим детям и спросила о Б <ейдельмане>. Девочка сказала: «Это мой папа! Я вас проведу к нему!» Мама отправилась и договорилась за 50 р. с Б <ейдельманом>, что он приготовит Мишу к экзаменам, это за три недели то! С этого дня Миша начал ходить к нему и там больше играть с детьми Б <ейдельмана>, чем заниматься. Мама нашла квартиру у двух старых дев и поселилась у них. Не помню, какое впечатление произвел на меня тогда Орел, но жизнь у этих барышень помню, прекомичные были, одна все замуж собиралась и гадала у цыганки, раз я даже подсмотрела, как она с цыганкой клала земные поклоны и потом цыганка с ног до головы осеняла юбкой эту Прасковью Алексеевну и юбку взяла себе. Другая, Лариса, пила водку, часто ругались и даже дрались между собой, точно наши тетушки, но наши хоть не дрались. К экзаменам обещал приехать Ал <ександр> Ан <тонович>, боясь якобы, что Миша не выдержит экзамена и мама потеряется, но это был чистый предлог, он ехал для Маши.
Маша познакомилась с двумя барышнями, а я с двумя девочками, богатыми помещицами, одна из них была 15 лет и влюбилась в кого то, но в кого не помню, наши девы рассказывали много об этом, я все прислушивалась ко всему, а было мне только 11 лет. Действительно Ал. Ан. приехал за день экзаменов и пробыл два дня, собственно сидел и гулял с Машей, меня, как отвод, брали с собой, а мама была вполне уверена, что он, как друг, приезжал для помощи ей и чтобы познакомить маму с нашим губернским предводителем, Миша определялся на дворянский счет. Миша выдержал экзамен, Мама отвела его и вернувшись долго плакала, не могла вспомнить без слез, как он, одетый уже в форму, говорил ей, что ему кепе мало и это в самую минуту расставания – видно ему было тяжело и он не знал что говорить матери, а видел, что маме тяжело. Как я теперь понимаю маму, самой мне много пришлось пережить с детьми горьких, не минут, а уж лет…
Когда пишу эти воспоминания, мне ярко представляется эта картина прощания матери с Мишей. Поехали мы обратно, в дороге отсутствие Миши не было заметно, но дома нам с Сережей не доставало его, мама грустила, Маша уехала к Пиотровским, у которых она последнее время жила мыслями, приезжала домой на несколько дней, грустила и оживлялась только, когда за нею приезжали оттуда, Мама начала опять думать о нашем ученье и решила тетю Лиду отправить в Москву за гувернанткой, ибо была уверенность, что Лида специалист на все, и вот мы, теперь уже с Сережей, находимся в трепетном ожидании особы, няня наша все сулила нам «ведьму» и говорила такие страсти про нее, что будет стара и зла как ведьма, а мы мечтали о молодой, и Сережа говорил, что ее будут звать «Сашей».
И не ошибся, Саша то она была Саша, но старая и злая. В день приезда новой гувернантки нас был Ал <ександр> Ан <тонович> и Ольга Иван., мать нашей милой Ан <ны> Ив <ановны>, большая приятельница мамы. И вот, когда уже нас отправили спать, слышим «приехали!» Сгорая любопытством, мы открыли дверь из спальни в переднюю, видим старую, черную и чопорную, я не вытерпела и показала Сереже язык, смотри мол: «молодая!» Ведьма ведьмой, лицо злое презлое, гувернантка мой язык заметила и уж потом допекала меня этим. Грустно настроенные легли мы спать, и на утро уж только знакомились с Алек. Сергеев. Гувернанткой она была хорошей, мы быстро выучились болтать по французски, за то по немецки она учила нас только читать и писать, сама видно была не сильна в нем. Зла она была страшно и вначале меня терпеть не могла, любила Сережу и всячески его баловала, я всегда была покладистого характера и не очень тяготилась ненавистью А. С. Но позднее Сережа попал в немилость, со мной она стала дружить. Жизнь наша пошла опять по старому, учимся, гуляем и вечером слушаем чтение А.С. страшных рассказов, уже новые, так как кроме Ав. Дм. нет никого из приживалок (Ав. Дм. преоригинальная была особа, нехороша как смертный грех, неглупа, но всегда была влюблена в кого нибудь и собиралась замуж, в это время она была влюблена в богатого деревенского купца, гадала о нем, молилась она всегда в спальне, я притворяюсь, что сплю, она молится на коленях и со слезами: «Казанская Б. М., обрати сердце рабы твоей Марты ко мне!» Это она молилась, чтобы мать этого купца позволила на ней жениться, потому что составила себе идею, что этот Александр Сергеевич не женится на ней благодаря матери) Только иногда вечером собаки поднимут лай, у нас переполох, тетя воружается кочергой, идет, нянька держится за юбку тетки, за нянькой кухарка и еврей, квартирант, вызванный теткой как мужчина, замыкает шествие, и трясется от страха, нянька читает молитву: «Сила Честнаго животворящего Креста!» Тетка еще у крыльца начинает кричать: «Выходи, такой сякой, кишки на кочергу намотаю!» Двигаются по двору и она все кричит, конечно ни кого, а мы тут трясемся от страха и любопытства, кто это там? Я всегда была очень разочарована, когда наше воинство возвращалось и говорило, что никого и ничего. Ведь этакия команды не раз собирались в зиму в поход на невидимого злодея, а в городе была тишь да гладь, даже обыкновенного воровства не случалось, но наши все боялись чего то, вот теперь бы, что с ними было бы, когда что не день то убийство, да грабежи, а мы живем себе без страха с весьма плохими запорами, привычка к ужасу наших дней сказывается, не было насилий, боялись разбоя, стали кругом разбои, не боимся. К Рождеству тетя ездила за Мишей и мы были в восторге от своего кадета, не отходили от него, а он то важничал перед нами; нашей Алекс. Сер. не было Рождеством с нами, она ездила в Москву к больной матери. Как мы с Сережей мучались этим; доняла она нас ужасно, и вот Сережа говорит: «Вот бы мать у нее заболела и она уехала бы от нас!» Что же, не проходит часа, телеграмма, мать ее тяжко заболела. Сережа почувствовал себя как бы виноватым и все волновался, говоря со мной о своем пожелании, я тоже чувствовала вину.
Святками мы ездили к П <иотровским>, у которых была дочка Настя и воспитанница Вера, мы сдружились и время хорошо прошло, была у них елка, не хотелось уезжать домой, но ехать надо было, так как 5 Января везли Мишу в Орел. Увезли Мишу и мы стали ожидать А <лександру> С <ергеевну>, которая должна была съехаться с тетей на ст. и с нею приехать – приехали они и с ними Маша. А.С. долго что-то рассказывала, мама качала головой, тетка уже с Машею не говорила, Маша была грустна и обижена, я видела это, но ничего не понимала, потом уж из откровенных фраз, намеков, вообще наши старухи не стеснялись нашим присутствием, я поняла, что тетка заметила ухаживание Ал <ександра> Ан <тоновича> и недовольство его жены, сделала Маше в присутствии Ал. Ан. сцену и велела собираться домой, и так как тетку все боялись, Маша беспрекословно уехала, так ли это было, не знаю, но у меня сложилось в голове так. Маша же стала реже ездить туда, хотя все таки ездила, за Машей также ухаживал Ан. Ад., дома же ей тяжело жилось, а кто притягивал ее туда, Ал. Ан. артиллерийский офицер или Ан. Ад., страшно некрасивый и комик. Смутно я догадывалась о ухаживанье. К Пасхе Мишу не брали, наша жизнь разнообразилась только свадьбой жандарма, на которой мы были, так как наш квартирант сменивший долго жившего еврея, которого, как не имеющего права жительства, выселили совсем из города, хотя он целые три года откупался от полиции, а тут знать не осилил заплатить обнаглевшему квартальному, его выселили; как мы жалели Якова Самуиловича и жену его Ривку, такие они были хорошие оба (бедны были страшно), так вот этот квартирант выдавал свою сестру замуж за жандарма, мы очень развлекались этим, наши А <лександра> С <ергеевна>, Ав <дотья> Дм <итриевна>, Маша даже наряжались и завивались на эту свадьбу, памятна она мне осталась, потому что когда собрались гости, в числе которых был дьякон и подпольный адвокат, оба сильно пьяные, мы с А.С. все время говорили по французски, вот аблакат подходит к нам и говорит: «Вот что барышни, по французски говорите в обществе себе равных, не на свадьбе жандарма, так каждый из нас может думать, что вы говорите о нем, в нашем обществе говорить по французски даже неприлично!» Сконфузилась моя А. С. Еще потеха была, Ав. Дм. к делу и не к делу в разговоре всегда говорила: «в этом», а бывший здесь дьякон ко всему прибавлял: «в том то и дело!» Сидят Ав. Дм. и дьякон и беседуют, она беспрестанно говорит «В этом?» А дьякон: «В том то и дело!» Было комично.
Миша приехал в начале Апреля домой, в корпусе была свинка и их распустили, с его приездом стало веселей, хотя он сначала смотрел на нас свысока, а потом опять стал Мишей, а не Орловским кадетом. Среди лета наша А.С. опять была вызвана в Москву к умирающей матери, на этот раз мы ей этого не желали, но все таки без нее было лучше. Сережа был страшно нервный мальчик, а А.С. его часто раздражала и он рыдал так, что у меня сердце сжималось от жалости к нему, вообще я Сережу любила какой то жалостной любовью, его мне всегда было жалко (так до самого конца его жизни я его любила и жалела), а с отъездом А.С. как то ровней у нас стало. Не помню, сколько время она проездила, но однажды мама с нами ходила гулять и уже возвращаясь домой мы встретили дядю Андрея, который сказал, что был у нас и приехала А.С. и добавил: «Мать то у нее наконец умерла!» Мы бежим уже с трепетом домой, она нас встречает вся в слезах говорит мне что: «Votre oncle est tout ? fait sot ou mechant. Je lui disais que je suis apresant uneorphelinne, et votre oncle dit moi „Grace ? Dieu, А.С.“ Ma m?re est morte, а il parle comme un homme mechant!»[3 - Ваш дядя совсем глупый или злой. Я ему сказала, что я теперь сирота, а ваш дядя мне говорит «Слава Богу, А.С.» Моя мать умерла, а он говорит как злой человек! (фр. с ошибками: apresant вместо ? prеsent, orphelinne с двумя n вместо одного).]
Дядя был глухой и мне стало его жаль и смешно очень и говорю по русски: «Дядя, верно, подумал, что вы говорите: вот я и приехала!» Он и сказал: «Слава Богу!» Нет, наша А.С. заливается слезами от обиды. Потянулись опять наши занятия, Мишу отвезли и мы снова по очереди состоим в любимцах. В городе было большое оживление, открытие жел. дороги[4 - железнодорожная станция в Ефремове открылась в 1874 году.] и Мишу уже повезли с разрешения начальства по ж.д., но на рабочей платформе, полной народа, ходили смотрители ж.д. и наша Ав. Дм. говорила, что тут действует нечистая сила и покойный митрополит Филарет не благословил ж.д., откуда она это взяла, кто ее знает; еще казус такой, учу я урок географии о земле, она слышит и говорит маме: «Ю <лия> С <тепановна>, вот так и развивается негелизм, ведь это безб <ожие>, я бы на Вашем месте запретила эти уроки!» Хорошо, что А.С. не слышала, а то была бы история, она с Ав. Дм. никогда не говорила и иначе не называла как «Cette personne»[5 - эта особа (фр.).].
К этому ж времени у нас объявился «политический», говоря современным языком, а тогда это был «негелист» по понятиям Ав. Дм. Сей политический был контролер на ж.д. и стоял у нашего знакомого дьячка довольно глупого, по доносу протопопа сего контролера забрали, дьячек все это нам в лицах представлял и до того путал, что его бросили даже допрашивать и не возили в Петербург, куда других возили, протопопа, семинарских учителей, учительниц, про этих последних говорили, что их будто высекли в 3-ем отделении, рассказывали так, что каждую по очереди сажали в кресло, кресло проваливалось и их под полом секли, все конечно этому верили, а дьячек Егор Мефодьевич говорил, что Царь наш дрянь и пора его убить! Теща на него кричала, называла дураком, тесть приходил и жаловался и просил уговорить Мефода (так мы его звали) не болтать. Но во всяком случае Мефод Аникееву не повредил, он нес чушь, следователи долго с ним бились и бросили его – а вот теперь бы наш Мефод насиделся бы в тюрьме, не посмотрели бы на его глупость. А книги то Мефод пожег в печи еще раньше обыска и этого не сказал жандармам, ему жена Аникеева принесла и просила сжечь, куда честный простой, глупый дьячек против протопопа, который книги брал у А <никеева> и донес на него.
Судили и сослали, судили не у нас, не знаю где, протопопа тетя с тех пор видеть не могла и звала «жандарм синие портки». Хотя политического тоже ругала, как ругала А <лександра> II. Вот это было у нас первое политическое дело в нашем городе, всколыхнувшее наше болото.
Осенью этого года, уехала наша А <лександра> С <ергеевна> к нашей великой радости, отъезд был в высшей степени удивителен и не ожидан, вышло это так: мама взяла на квартиру дочь одной помещицы, которая училась в прогимназии, это ей кажется было не по нраву, она как то все стала дуться и вот раз вечером, мы читаем в троем по очереди, какой то переводный английский рассказ под заглавием: «Хроника семейной жизни», рассказ жалостный, смерть матери. Мы, трое, начинаем плакать, но не желая показать слез, удерживая их, начинаем истерически хохотать, слезы градом и хохочем; она сидела в темной гостиной и оттуда начинает по французски меня бранить, стало обидно, я ей отвечаю: «мы вовсе не смеемся!», отвечаю нарочно по русски.
Ужинать она не вышла и на утро, мы ожидаем ее в классе, она не идет и заявляет маме, что при таких злых детях она жить не хочет, оделась и ушла к нашим знакомым и оттуда прислала за своим имуществом. Мама, хотя ей тяжело было сейчас оставить нас опять без учительницы, не стала уговаривать ее, и вот мы снова без руководительницы, мама наученная горьким опытом уж не решилась брать гувернантку, а пригласила начальницу прогимназии давать нам уроки, и эти уроки продолжались больше двух лет, мы оба полюбили Софью Васильевну и всегда с нетерпением ждали ее прихода, особенно Сережа. Кстати надо сказать, что Сережа был преоригинальный мальчик, выдумал носить лапти, кухарка ежедневно приходила его обувать в них и обертывать ноги онучами, сверх подевки надевал белый фартук, вязал чулки и вышивал.
Весной мы ездили к Троице, т. е. в Сергиевскую Лавру под Москвой, как только Миша приехал из Орла, так мы и отправились. С нами ездили Маша и Коля, поездкой конечно были довольны, только я теперь забыла, какое впечатление произвела на меня тогда Лавра, только помню, что из Лавры мы в компании трех девиц и одной вдовы ходили в пещеры и Вифанию и я, как никогда не ходившая, так разбила ноги, что возвращаясь оттуда с трудом тащилась и горько плакала от боли ног. В Москве мы пробыли не долго, были в Кремле и только совсем забыла впечатление, но хорошо помню, что в Москве был пожар и недалеко от той гостиницы, где мы останавливались, гостиница «Лоскутная», и мы испугавшись шума, в том числе и Коля, которому уже было лет 16, запросились домой, отправились на вокзал, поезда нет, пришлось ночевать около вокзала в плохенькой гостинице. Утром угораздило сесть на дачный поезд до Серпухова, где пробыли до вечера, гуляли на какой то даче, качались на качелях, к нам присоединились какие то молодые люди, превесело было, это я помню. Потом мы ездили к П. в деревню гостить и там с Сережей вышел казус; Ан. Ад. живший у П. управляющим и живший не отдельно, а в семье П <иотровских>, вздумал жить самостоятельно, перешел во флигель (Ан. Ад. ссыльный поляк повстанец 63г., но православный, во время мытарств принявший православие – тоже верно ради хлеба насущнаго) устроил новоселье, мы все, П <иотровские>, Маша и соседи Боборыкины были у него, обедали, я сидела со взрослыми и с грустью поглядывала на стол детей, там сидели Миша, Сережа, Настя и Вера и очень весело хохотали. Кончился обед, мы, дети, вышли на крыльцо и Сережа все клал мне на плечо голову и вдруг вырвался через перила и моментально заснул, переполох между нами страшный, мама бледная, Ал <ександр> Ант <онович> волнуется, Б <оборыкин> тоже. Ал <ександр> Ан <тонович> берет его и несет в дом, голова у Сережи болтается, совсем мертвый, мы грустно потянулись за ними, сердце страхом замирает у меня. Положил его Ал <ександр> Ан <тонович>, спит, спит, еле слышно дыхание, мама села у ног. Я слышу, что Ал <ександр> Ан <тонович> говорит Настасье Яковлевне, своей жене: «Завтра велю запречь карету пораньше и скорей вести его в город, это что то ужасное!» А он спит себе да и только, и спал до 4х часов утра (с 4х вечера) когда проснулся, то говорит маме: «Есть хочу!» И объясняет, что во время обеда, ему сильно пить захотелось и он налил полстакана воды (а вода и водка были в одинаковых графинах) и выпил водки вместо воды, как не задохся!
Варвара Герн
Эта книга – воспоминания Варвары Дмитриевны Герн, провинциальной дворянки, дочери отставного военного, жены скромного помещика, матери хороших сыновей и дочерей, сохранивших несколько рукописных тетрадей. Записи доходят до 1916 года. Своеобразный, живой стиль автора сохранен полностью, орфография, характерная для среды и эпохи, почти не тронута. Интересно следить, как важные и грозные мировые события отражаются в жизни дружной благополучной семьи.Публикацию подготовила Н. Доброхотова-Майкова.
Записки прабабушки
Варвара Герн
© Варвара Герн, 2020
ISBN 978-5-0051-5981-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Маленькое пояснение
Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, всего-то прабабушка, закончила свои воспоминания чуть больше ста лет назад.
Нам их отдали, когда в 2019 году скончалась внучка Варвары Дмитриевны, Татьяна, в возрасте девяноста семи лет, а вскоре умер ее брат, наш дядя Юра, ему было девяносто пять. Отдали, потому что у нас есть потомки, хотя Гернов среди них и нет. Фамилию Герн носит последний из ее внуков, Олег, ему 80, как и мне. Он живет в Ульяновске, мы посылаем ему распечатки.
Первоначально рукописная книга, довольно толстая, хранилась у дочерей Варвары Дмитриевны, Юли и Вари, незамужних, бедных до крайности, очень дружных и добрых. Когда-то они работали в больнице для психически больных детей в Лосинке, потом доживали на одну пенсию в половине стеклянной терраски. В другой половине жила бабушка с нашей мамой, Таней и Юрой.
Мы и наши дети очень любили бывать у «теток» в Лосинке.
Ради их памяти мы и затеяли расшифровку Записок. А потом оказалось, что это страшно интересно: время, город, человек. Смешно было многое, но Мама сразу внушила огромное уважение. И дочь не подвела! Резвая девушка стала серьезной, ответственной женой и матерью…
Не интеллектуалка, просто умная! И что особенно приятно – стихийный либерализм дворянской среды.
Начинаются «Записки прабабушки» в 1910 году, в это время она переживает за своего «первенца», нашего деда, который уже три года в крепости. За свои убеждения. А деду был тогда 21 год! Значит, взяли совсем мальчишкой… В пятом ему было 16. Успел хоть чем-нибудь покидаться во время революции? Говорят, в тюрьме он учил языки.
С самого начала расшифровки я помещала ее в ЖЖ, в надежде, что друзья и подскажут, и поправят, и помогут. Правила публикации разъяснила odna_zmeia (Наталья Соколова); mingqi (Аглая Старостина) сразу вычислила «город Ефремов» и как туда можно было добраться, пока не провели железную дорогу, и что случилось, когда ее провели. Неожиданно выяснилось, что многих друзей и знакомых В.Д. знает Википедия, а более скромных – Губернские ведомости и другие источники. Легко находятся генералы и даже штабс-капитаны. Сложнее – учительницы и врачи…
Нашлась масса интересных сведений (Поместья, Железные дороги, разные великие люди, врачи и генералы, Настя Пиотровская и так далее). Мы их помещаем в Приложение. Есть вещи удивительные сами по себе, например судьба Насти, ближайшей подруги В.Д., к сюжету они отношения не имеют, но жалко бросить разведданные… пусть хранятся в подполе.
Обидно, что так и не удалось расшифровать инициалы близкого родственника (свойственника) героини, он возникает на первых же страницах и держится до конца – возможно, он ее пережил (малоприятное лицо). Рудвинский Ан. Ад. – это «Ан. Ад.» страшно меня раздражает! Мысленно я называю его «Адамычем» – он поляк – а вот Андрей он или Антон?
Н. Доброхотова-Майкова
Варвара Дмитриевна Герн, в девичестве Зюзина, начала писать эти воспоминания в 1910 году. Кончаются тетрадки осенью 1914 года. Умерла В. Д. в 1916 году.
Мои воспоминания за 40 лет
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УЕЗДНАЯ БАРЫШНЯ
Давно уж хотелось мне записать все прожитое мною, за мою долгую жизнь, много было всего хорошего, и худого, особенно не баловала меня жизнь за последние годы, тяжко отразившиеся на всем укладе нашей семейной жизни, и теперь еще переживаю тягостное отсутствие моего первенца. Тяжело ему досталось на долю, в юные годы сидит в крепости, еще не так тяжело сиденье, а как произвол лиц администрации, произвол у нас теперь во всем, темные силы и темные лица торжествуют победу над побежденными.
День и ночь думаю о тебе, мой дорогой сынок, дождусь ли я того радостного дня, когда ты будешь со мной! Уже три года почти, как несешь ты кару за свои убеждения, и три года мать твоя ни разу не заснула с облегченной душой. Тяжело мне, а главное то, что несправедливость убила у меня веру в Провидение, я из верующей стала не верующей. В начале несчастья, я горячо молилась и верила, что Господь услышит мои молитвы…
Нет справедливости ни на небе, ни на земле!
Город Ефремов и Архангельское
Хочу постепенно возобновить в своей памяти разные события и рассказать, что удержалось в моей памяти. Начну с детства своего, хотя оно совсем серенькое и далеко от теперешнего уклада жизни. Родилась я в небогатой семье отставного капитана, почти старика, от второй жены, и была первенец; у него от первого брака не было детей, и я то родилась после 5 лет бездетного брака и была страшно жданное дитя у обоих родителей; отец был отставной раненный офицер, мать бедная дворянка, дочь ветерана 12 года; после меня родились три брата, один из них, Вася, умер 1? годовалым. Жили мы в уездном городе в Тульской губ. в собственном доме, и жили хотя не богато, но зажиточно, отец много помогал семье моей матери, у которой было три сестры, одна Анна замужняя, а Елизавета и Лидия девы. Отца я плохо помню, помню, что он был полный, с черными волосами и рыжими усами, и всегда ходил в военном сертуке, был веселый и отзывчивый человек, много у него было приятелей между чиновниками, почтмейстер, казначей, смотритель училища, старый городской голова; как сейчас их помню – теперь уж нет этих типов, много смешного они из себя представляют на современный взгляд, но много и симпатичного у них было; как много было простоты, но задушевной простоты, в обыденной жизни наших стариков. Собирались вечерами друг к другу поиграть в ералаш, все было просто, без церемоний, придут вечером с фонарями, поговорят, поиграют в картишки, и мирно плетутся во свояси. Например такая картинка, отец в своем военном сертуке стоит перед окном в зале, кепе лежит на столе, также табакерка и носовой платок, смотрит в окно, это он ожидает, когда на почту пойдут, смотрит головы, и увидя их, надевает кепе и сам идет туда, это значит привезли почту, а ходила она два раза в неделю; идут приятели к приятелю почмейстеру читать «ведомости», ибо их в городе никто не получал, были дороги и редки, выписывались газеты помещиками только, и вот друг почмейстер устраивал у себя чтение; почитают и вечером смакуют прочитанное, отец воодушевляется и вспоминает свои походы.
Отец как-то вдруг из бодрого мужчины стал хилым; время его болезни у меня как будто больше в памяти, он реже стал уходить из дома, сидел в гостиной на диване и раскладывал пасьянс; раза три в день уходил в спальню и подолгу молился перед древней иконой Казанской Б. М. Вечерами я и брат Миша, его любимец, придем и сядем около него по бокам, сидим в потьмах и он рассказывает сказку, бесконечную, про солдат и чертей, а мать возится с младшими братишками, прижмемся к нему, слушаем, а надоест слушать, пристаем с разными вопросами, пока не надоедим ему и он закричит матери: «Мать возьми их!»
У отца была любимица, дочь тети Анюты, она и крестница его была, в то время ей было лет 18, отец очень любил, когда она ему читала. Помню, как заболел отец, это что-то было ужасное, болезнь началась икотой, он так икал, что проходящие мимо останавливались, слышно было на улице. Мама рассказывала, что он объелся печеных яйц, которые он ужасно любил, много лечили, но он так и не оправился, страдал года 1? и умер, по всей вероятности от рака, так как питаться совсем перестал, все была рвота; умер он когда мне было 9 лет, за год до его смерти умер и братишка Вася. Мать поистине была мученица, мы маленькие все, отец тяжело больной, капризный, минуты без нее не мог быть, она должна была быть постоянно при нем, а там мы. Уже незадолго до его кончины к нам приехала тетя Лида, но отец то ее кажется не очень любил, он из всех сестер матери любил очень тетю Анюту, да кто эту чудную женщину не любил, это была мученица, но как кротко и терпеливо она несла свой крест, с какой верой молилась и во всю жизнь свою никому не сделала больно, никого не оскорбила; у меня крест не менее тяжел, но в другом роде, и я не могу быть так незлобивой как она, и кажется мне тяжелей, чем ей, потому что она верила глубоко. Умер мой отец в ночь и я была разбужена воплем матери и сама закричала, ко мне бросилась рыдающая мать со словами: «Сиротка моя бедная!» Обняла меня и показала отца лежащего на диване (долго я этот диван берегла, теперь пришлось его бросить) с рукой на лице, говорят, что это он крестился и так умер не донеся пальцев на лоб. Помню его лежащего на столе, помню, как нас одели в черное с белыми плерезами, Миша все обращал мое внимание на свою черную рубашку с белой тесемкой, а мой траурный наряд, это было что-то ужасное, длинное до самой земли платье с кофтой, белый коленкоровый чепец с большой оборкой и черной лентой, на шее огромный черный платок, концы которого спускались до полу, мать в точь-точь таком же наряде. Помню, как несли отца, нас почему-то посадили не в наш экипаж, а в соседский, меня силком посадили к матери, а Сережу помню вели пешком до самого кладбища и мне было жалко на него смотреть, как его, крошку, вела за рученку некая Ольга Васильевна. Помню и трапезу после похорон и убитую горем мать, которую прямо оберегала Ольга Ивановна, добрая, хорошая барыня, мама до конца своего, всегда с благодарностью вспоминала ее, именно тот человек и дорог, с кем переживается тяжелая страница жизни. Больше об отце ничего не могу сказать. Мама его очень уважала, хотя рассказывала, что замуж выходила не любя, долго не соглашалась, но жизнь у нее была тяжелая, их было три сестры и одна замужняя с большой семьей и ее <нрзб> мужем, который в молодости был ревнив, а потом горький пьяница, бедность большая, хотя были крепостные, Лида и Лиза с невозможными характерами, вечная ссора между собой, вечная брань с крепостными и пьянство зятя и брата Павла (кстати, которого звали Дмитрием, но бабушка не брала ему бумаг, а оставила бумаги умершего сына Павла, мы все звали его «дядя Паша», только на похоронах его, куда меня взяла мама, я с удивлением услышала: «раба твоего Димитрия!»), так вот такая обстановка заставила маму выйти замуж, она всегда говорила, что не раскаивалась, она искренно полюбила его за его чудный характер и уважение, которым он окружил ее. Как курьез, она рассказывала сватовство отца, которое я и расскажу, оно типично, по нынешнему пожалуй и смешно! Отец овдовел после 23 (5?) -летнего сожительства с женой немкой, он в то время еще служил инвалидным начальником и как говорится, дом у него был полная чаша, и решил после 40 дней смерти жены жениться, сватали ему много девиц, но его выбор остановился на маме (мама была хороша собой и ей тогда было 27 лет) и еще одной девице Голиковой; отец помолился и лег спать с такими словами: «Пусть Наталья Егоровна мне сама укажет, на ком из этих девиц жениться!» Видит во сне, едет он с Н.Е. в карете, а по обеим сторонам кареты, справа идет мама, а слева Г.. Н.Е. указала ему на маму. Видно, ложась спать, больше думал о маме. Утром вставши, поехал в собор, отслужил молебен и вернувшись домой, послал за тетей Анютой, которой и объявил о своем желании жениться на маме, та и ног под собой не чуяла от радости и спешит с этой радостной вестью домой, а тут мама запировала:[1 - заскандалила (тульское диалектное) (здесь и далее примечания публикатора)] «не хочу, и точка!» В голове страстное желание уйти тихонько в монастырь, даже говорит: «постоянно мечтала, как встану ночью и уйду!» Пошли уговоры, послали за тетей Лидой, которая жила у своих приятелей Левшиных, прося ее и гг. Л. уговорить маму не отказываться от счастья; долго она не соглашалась, но после долгого раздумья да еще очень хороших домашних дрязг она решилась выйти и не раскаялась все 15 лет прожитых с отцом. Мама моя была очень умная, энергичная женщина, весьма молчаливая, осталась с нами малолетками 39 лет, прекратила всякое знакомство, занялась нашим воспитанием, пригласила гувернантку и началось наше воспитание, что учение не было достаточным, это факт, но нравственное наше воспитание было отличное; она сумела внушить нам честное направление. Да, моя мама тихо и скромно совершила свой долг, спасибо ей большое, себе она буквально во всем отказывала, жила нами и для нас, но держала нас весьма строго и мы боялись и не смели ей перечить ни в чем и боялись огорчить ее, кроме нашего воспитания она много помогала теткам, давала на ученье двоюродным, Машу[2 - племянницу, дочь тети Анюты.] любила очень и еще давала приют трем безродным старухам, хотя доходы у нее были небольшие, а как то ухитрялась жить и сводить концы с концами. У нас жили, кроме тети Лиды, две вдовы и одна старая дева; помню, как раздвинут стол и сядем все вечером, то вся комната занята, такая картина: длинный стол, две сальных свечки по краям, мама сидит и шьет, около Миша, Сережа на столе сидит на шкатулке, я, Маша (когда не жила в деревне, где она часто жила у одной помещицы), гувернантка Анна Ивановна, дочь Ольги Ивановны, которая во время смерти отца была единственной маминой утешительницей, тетка, приживалки, нянька Анна Афанасьевна – и непременно задом к столу, чтобы свет падал на чулок, который она вечно вязала, все с работой и все с рассказами, у каждой непременно сверхестественный, с привидением, с колдовством; мама никогда не принимала участия в этих рассказах, редко когда рассмеется на смешной рассказ, мы дети дрожим от страха, боимся выйти в следующую комнату, особенно Миша, тот прямо ревел от страха, когда А.И. посылала его за чем-либо. Миша ни за что не идет. А.И. начнет спрашивать: «Чего ты боишься?» «Там Адам и Ева!», отвечает Миша. Почему именно Адам и Ева, он не мог объяснить. А.И. берет его за руку, ведет и освещает стены, показывая, что там никого нет. Да, прослушав те рассказы, невольно волосы шевелились на голове, я хоть очень храбрилась, но душа в пятки уходила часто. Вот и таким образом вечер кончался.
Сережа засыпал на своей шкатулке, мама уносила его в спальню, немного погодя валился Миша, этого уносила тетя и раздевала. Миша был крупный мальчик, а Сережа больной, жалкий, доктор говорил, что он недолговечен, и мама его страстно любила, возилась с ним сама, и он был страшно избалован, меня же мама держала в черном теле, заставляла много работать, что для меня было большим наказанием, я была веселая, живая, непоседливая, тщедушная некрасивая девочка, училась хорошо, Миша же был ленив, очень упрям. Садились мы за ученье в гостиной в 8 часов и занимались до 12 часов, в 12 ровно подавали обед, который был больше скромный, щи да каша с молоком, а в Праздник только жаркое и пирог; часа в 3, когда была лошадь (это еще при жизни отца, после него мама скоро продала лошадь и экипаж) ехали к теткам, а потом ходили, куда мы весьма охотно отправлялись, нам там казался другой мир, хотя там была страшная бедность, но всегда веселей нашего и свободней, двоюродные показывали нам всевозможные фокусы, учились они в городском училище, и нам казалось, что они все знают. Часа два пробывали у них, там домой и вечер вроде того, что я описала, 8 часов мы уже ложились спать, все трое вместе с матерью в спальне, но я долго прислушивалась к чтению А <нны> И <вановны> и Маши в соседней комнате, так прослушала «Войну и Мир» и еще похождения Рокамболя, читали они много, но эти только сохранила в память.
В субботу у нас зажигались лампадки, и я очень любила (да и теперь люблю тихий свет лампад, так тихо, мирно делается на душе, но три года уже не зажигаю, нет у меня света и мира на душе, и я не хочу этого света, больно от него теперь мне), все сидят без дела и ведут мирные разговоры в полутьме трепетного света, даже неприятно, когда мама скажет: «Няня, зажги огонь!» – бежим к няне и смотрим, как она обжигает свечи, нравилось очень, как она зажжет, потушит и снова вздует огонь. В Воскресенье идем все к обедне в собор, бывало ужасно надоедало стоять, жарко, шуба давит плечи; летом мы любили ходить, особенно на кладбище, к обедне, а потом к отцу на могилу. Так без особенных событий прошло два года, в течение которых мы ездили раз во Мценск Богу молиться, отец обещался больным, что как оправится, так поедет к Николаю Угоднику во Мценск, мама свято решила исполнить его обещание и вот мы поехали на лошадях, 120 верст Мценск был от нас, по дороге заезжали к знакомым помещикам, Пиотровским и Зелинской, туда где часто гостила Маша, памятно мне только из всей поездки то, что у меня страшно разболелся живот и то, что у Зелинской Авдотья Дмитриевна <нрзб> рассказывала, как крестьяне целую семью своего помещика сожгли, семья была человек 8, сей помещик был из кровопивцев, доконал крестьян, и они его сожгли, обложили дом соломой и зажгли, кто покажется у окна, отпихнут, так и сгорело 8 душ, жутко было слушать этот рассказ, у меня поджилки тряслись. Ездили мы все, Маша и Коля. Анна Иван., прожив у нас два года, заявила, что не хочет у нас жить, ей вышло место в Москве к купцам, с которыми она должна была ехать за границу, сколько слез было пролито вместе с нею, ей жаль было нас и хотелось повидать свет. Отъезд ее целое событие в нашей жизни. Через два месяца у нас была новая гувернантка «Адель», только что с институтской скамьи, очень хорошенькая и очень пустенькая, после А <нны> И <вановны>, которая была умна и занималась с нами хорошо и вдруг такая пустельга – учить не могла, мы у нее все списывали с книги, а она вертится против зеркала или сидит на окне и перемигивается с полицейскими чиновниками, полиция была напротив; пробыла она у нас недолго, с Мая по Октябрь, и вышла замуж за учителя городского училища, субъэкт сей влюбился в нее, но субъэкт был ужасный, никогда не питался своим, а все ходил по ученикам или должникам, давал деньги в рост, через теток он познакомился с нами и являлся обедать чуть ли не каждый день. Одна из наших приживалок, Анна Николаевна, вдова инспектора, женщина с образованием (поздней она поступила во вдовий дом, у нас же проживала в ожидании там вакансии) много говорила с Адель о этом учителе, рассказывала, как он жаден, как скверн вообще, на что Адель отвечала: женится, переменится.
Выскочила за него наша пустельга, не подумавши, радовалась его подаркам, и верно скоро раскаялась, он ее запер со дня свадьбы, мы только раз их и видели у себя в Ноябре, и с тех пор не видали, рассказывали, что он когда уходил в училище, ее запирал на замок, квартира же была на краю города в хибарке, без прислуги. Венчалась она 9-го Октября, это событие в памяти у меня; день был чудный, теплый. Одели ее в белое кисейное платье и фату, она выскочила на крыльцо, перед которым собрались соседские кухарки, горничные, дворники, вертится и спрашивает: «Хороша я?» Тетя Лида кричит: «Бедняжка, иди в комнаты, чему радуешься?» Вбежит и сейчас же в окно, там полицейские ей делают ручкой. Наконец приехал шафер и повезли ее в церковь в карете, мама поехала с нею и Миша с образом, я и Маша сзади на извозчике, и вот и весь поезд.
В ноябре появилась у нас новая гувернантка Марья Васильевна, но прожила не долго, в Январе уехала, она была помещица, и говорили, имела связь с соседом женатым и поссорилась ним, он был несколько раз у нее и за ней присылал. Гувернантка была плохая, ничего она нам не дала, А <нна> И <вановна> стояла высоко над ней, казалось, у нас уже такой и не будет, и как мы были рады, получая от нее из за границы письма, и мы мечтали, что она вернется к нам, на это было похоже, но увы, она по приезде из за границы вышла замуж и невестой гостила у нас, вышла замуж за помещика и весьма неудачно, он все прокутил, десять лет она ездила с ним, содержали театр в Харькове, в Москве меблированные комнаты, и в результате, благодаря родственникам, она назначена начальницей нашей прогимназии, где прослужила 30 лет и только два года тому назад скоропостижно там скончалась, мне писали, как хоронили эту замечательную женщину, ведь воспитала она несколько поколений, оставила по себе память, писали мне, что собор не мог вместить всех молящихся за нее и панихиду служили на площади.
Немного уклонилась я в сторону, но мне хотелось посвятить строчку этой светлой личности, которой связано мое детство, юность, и с которой я переписывалась до самой ее смерти. После отъезда М <арии> В <асильевны> мама решилась ехать в Москву за гувернанткой, туда в то время из нашего города до Тулы было на лошадях, а уж из Тулы по железной дороге, вот мама, Маша и Ав <дотья> Дм <итриевна>, одна из наших приживалок, старая дева (поехала искать себе место экономки в Москве, не имея души там знакомой и имея 30 р. только денег), в Феврале они отправились в Москву, мы же остались с тетушкой и нянькой дома, остальные наши приживалки тоже куда-то разъехались. Без мамы мы оставались в первый раз, тоска страшная, тетушка нас муштровала, обладала она страшно тяжелым характером, эгоистична была, ругалась, как извозчик, и к тому ж ревнива была, если заметит, к кому мама относится хорошо, сейчас вообразит, что ее сживают, мания преследования у ней была, и вот она всеми правдами и неправдами начнет выживать того человека от нас, таким образом выжила от нас Ав. Вас., приживалку вдову, очень неглупую старушку лет 70, именно за то что мама любила советоваться с Ав. Вас. Устраивала такие сцены, что мы дети дрожали от тех ругательств, мама терпит, терпит и скажет: «Чего ты бесишься?» Этого достаточно, начнется что то не вообразимое, крикнув все возможные обвинения и ругань, она уходит к тетушкам, живет там несколько дней, мама волнуется, тоскует, часто сцены были за Машу, хотя она любила Машу, но требования к ней предъявляла невозможные, Маша должна была за что то просить прощения у нее и целовать руку, не зная вины, поздней она проделывала и со мной такое. Много ругала Александра II, что он разорил их, по миру пустил отняв крепостных, мама только скажет: «Отлично сделал, отняв лодырей у Вас, да руки Вам укротил драться!» Ну и довольно, тетушка убежала; тоскливо, скверно на душе у всех нас; смотрим, через несколько дней тетя является, так как у тех тетушек перекусить нечего, да Лиза подобие этой, они переругаются, изощряясь друг перед другом, и в конце пальма первенства за нашей, а Лиза только уж может говорить: «ба-ба-ба!», не находит уж больше слов. У нас же Лидия хозяйничала, величалась, мама терпеливо сносила деспотические наклонности; хотя такие сцены повторялись по несколько раз в год, но каждый раз скверно отражались на маме и нас; позднее она уж не убегала, но делала еще хуже, замолчит, ни чай пить, ни обедать не выходит, суток по двое ничего не ела, сидит в маленькой комнатке на сундуке, ничего не делает, глаза уставит в одну точку, лицо злое; на нас это еще хуже отзывалось; мама зовет обедать, молчит, иду я, молчит, прислуга подходит, молчит. С тоской показываю ей, мама зовет ее чай пить, говоря: «Завтра, Елизавета Никол., займетесь, а теперь идите греться!» Из себя Е <лизавета> Н <иколаевна> была высокая, немолодая блондинка, одетая через чур бедно, выражение я тогда не могла разобрать, на вид скорей нянька, чем гувернантка, против тех, бывших у нас, она сразу казалась не умной, (оказалось потом, что она была вроде помешенной, и как мама взяла ее, не понимаю!) Прямо верно испугалась вроде Ав <дотьи> Дм <итриевны> Москвы, хотя с отцом она два раза была в Москве).
Ну, вот началась наша жизнь с новой гувернанткой, а так как в нашем городе два или три дома имели гувернанток и учиться не у кого было, то к нам приехала богатая купчиха и просила разрешить Е <лизавете> Н <иколаевне> учить ее двоих детей, Лизу и Петю (А <нна> И <вановна> тоже, кроме нас, учила троих дочерей исправника). Лиза и Петя стали ездить к нам на уроки, наша ментор ни бельмеса, пишем с книги, а уроки заказывает: «С этих до этих!» Я хоть добросовестно учила, а Миша и вовсе не учил, плетет бывало что то, где и «дура Е <лизавета> Н <иколаевна>» слышится, а она моя голубушка на все отвечает: «Хорошо». Мы с Лизой фыркаем от смеха. Так продолжалось с месяц, наконец мама начала говорить: «Е <лизавета> Н <иколаевна>, Вы портите детей, мальчик Вам Бог знает, что врет, а Вы на все «Хорошо». Не помню что она на это говорила, а кажется тоже «Хорошо» сказала. Я вижу, что мама печалится очень, тетка издевается над Е <лизаветой> Н <иколаевной>, рассказывая анекдот про архиерея «Хорошо». Маша старается сойтись с Е.Н., Ав. Дм. тоже, а она сидит целый день сычем, только раз она почему то вышла из апатии; у нас были хорошие знакомые поляки Алек. Антон. Пиотровский и его управляющий Ан. Ад. Рудвинский, бывали они часто и вот однажды приехали. Мы сидим за уроком, или верней сказать сидим и списываем с книги, (до чего это списыванье мне надоело) она спрашивает, кто это там? Я, сообщаю, и вдруг моя Е <лизавета> Н <иколаевна> начинает их ругать, да как: «поляки, лицемеры, изменники!» Конечно, теперь я бы поняла, что особа эта ненормальна, а тогда удивленная рассказываю маме, и конечно не получила от мамы никакого разъяснения. Прожила она у нас 1? месяца, и мама отправила ее в Москву и мы снова без руководительницы, а Миша был уже назначен в Орловский кадетский корпус, мама волнуется, а с отъезда А <нны> И <вановны> прошел год, в течение которого мы только списывали с книги, боится, что Миша не выдержит экзамена, посылает дядю Андрея, мужа тети Анюты в духовное училище, чтобы кто из учителей пришел нас проэкзаменовать, приходило два учителя, но в разное время, экзаменовали меня и Мишу, а что сказали, не помню. Миша короткое время ходил заниматься к одному из этих учителей. Около 20 июля мама решилась ехать в Орел, и поехали мы все, она не могла с нами расстаться на целый месяц, с нами поехала и Маша, до желез. дороги ехали мы на лошадях 50 верст, пред отъездом ходили к отцу на кладбище, брали икону «Смоленской Б. М.» домой и отправились. Что чувствовал 9летний Миша не знаю, он был всегда скрытен и молчалив. Приехали на станцию ночью, ст. называлась «Расошная» и около 12 часов пошли садиться в вагон, я вышла за Машей, и по близорукости от роду невидавшей поездов, не зная как садиться, я оборвалась с проножки вагона, ужасно расшиблась, искры из глаз посыпались, говорю Маше: «Убилась я, встать не могу!» Она отвечает: «Ну, так умрешь!»
Что за ответ был мне, ребенку, у которой нога почернела как котел (утром я уже увидала), я стерпела боль и даже не заплакала. Поехали, братишки заснули, а я всю ночь не спала, больно мне, и интересно ехать. Мама все всех расспрашивала про Орел и корпус, и вот какой то священник посоветовал ей обратиться к воспитателю Бейдельману и дать ему.
Поездка в Орел
Рано утром мы приехали в Орел, извозчики привезли в гостиницу, и что это была за гостиница, грязь была страшная. Мама говорила Маше, что она не может быть в гостинице, дорого, а пойдет искать квартиру, что и сделала сейчас же после чая. Я и Маша остались, а она забрав братишек ушла к корпусу, побродив около, она подошла к игравшим детям и спросила о Б <ейдельмане>. Девочка сказала: «Это мой папа! Я вас проведу к нему!» Мама отправилась и договорилась за 50 р. с Б <ейдельманом>, что он приготовит Мишу к экзаменам, это за три недели то! С этого дня Миша начал ходить к нему и там больше играть с детьми Б <ейдельмана>, чем заниматься. Мама нашла квартиру у двух старых дев и поселилась у них. Не помню, какое впечатление произвел на меня тогда Орел, но жизнь у этих барышень помню, прекомичные были, одна все замуж собиралась и гадала у цыганки, раз я даже подсмотрела, как она с цыганкой клала земные поклоны и потом цыганка с ног до головы осеняла юбкой эту Прасковью Алексеевну и юбку взяла себе. Другая, Лариса, пила водку, часто ругались и даже дрались между собой, точно наши тетушки, но наши хоть не дрались. К экзаменам обещал приехать Ал <ександр> Ан <тонович>, боясь якобы, что Миша не выдержит экзамена и мама потеряется, но это был чистый предлог, он ехал для Маши.
Маша познакомилась с двумя барышнями, а я с двумя девочками, богатыми помещицами, одна из них была 15 лет и влюбилась в кого то, но в кого не помню, наши девы рассказывали много об этом, я все прислушивалась ко всему, а было мне только 11 лет. Действительно Ал. Ан. приехал за день экзаменов и пробыл два дня, собственно сидел и гулял с Машей, меня, как отвод, брали с собой, а мама была вполне уверена, что он, как друг, приезжал для помощи ей и чтобы познакомить маму с нашим губернским предводителем, Миша определялся на дворянский счет. Миша выдержал экзамен, Мама отвела его и вернувшись долго плакала, не могла вспомнить без слез, как он, одетый уже в форму, говорил ей, что ему кепе мало и это в самую минуту расставания – видно ему было тяжело и он не знал что говорить матери, а видел, что маме тяжело. Как я теперь понимаю маму, самой мне много пришлось пережить с детьми горьких, не минут, а уж лет…
Когда пишу эти воспоминания, мне ярко представляется эта картина прощания матери с Мишей. Поехали мы обратно, в дороге отсутствие Миши не было заметно, но дома нам с Сережей не доставало его, мама грустила, Маша уехала к Пиотровским, у которых она последнее время жила мыслями, приезжала домой на несколько дней, грустила и оживлялась только, когда за нею приезжали оттуда, Мама начала опять думать о нашем ученье и решила тетю Лиду отправить в Москву за гувернанткой, ибо была уверенность, что Лида специалист на все, и вот мы, теперь уже с Сережей, находимся в трепетном ожидании особы, няня наша все сулила нам «ведьму» и говорила такие страсти про нее, что будет стара и зла как ведьма, а мы мечтали о молодой, и Сережа говорил, что ее будут звать «Сашей».
И не ошибся, Саша то она была Саша, но старая и злая. В день приезда новой гувернантки нас был Ал <ександр> Ан <тонович> и Ольга Иван., мать нашей милой Ан <ны> Ив <ановны>, большая приятельница мамы. И вот, когда уже нас отправили спать, слышим «приехали!» Сгорая любопытством, мы открыли дверь из спальни в переднюю, видим старую, черную и чопорную, я не вытерпела и показала Сереже язык, смотри мол: «молодая!» Ведьма ведьмой, лицо злое презлое, гувернантка мой язык заметила и уж потом допекала меня этим. Грустно настроенные легли мы спать, и на утро уж только знакомились с Алек. Сергеев. Гувернанткой она была хорошей, мы быстро выучились болтать по французски, за то по немецки она учила нас только читать и писать, сама видно была не сильна в нем. Зла она была страшно и вначале меня терпеть не могла, любила Сережу и всячески его баловала, я всегда была покладистого характера и не очень тяготилась ненавистью А. С. Но позднее Сережа попал в немилость, со мной она стала дружить. Жизнь наша пошла опять по старому, учимся, гуляем и вечером слушаем чтение А.С. страшных рассказов, уже новые, так как кроме Ав. Дм. нет никого из приживалок (Ав. Дм. преоригинальная была особа, нехороша как смертный грех, неглупа, но всегда была влюблена в кого нибудь и собиралась замуж, в это время она была влюблена в богатого деревенского купца, гадала о нем, молилась она всегда в спальне, я притворяюсь, что сплю, она молится на коленях и со слезами: «Казанская Б. М., обрати сердце рабы твоей Марты ко мне!» Это она молилась, чтобы мать этого купца позволила на ней жениться, потому что составила себе идею, что этот Александр Сергеевич не женится на ней благодаря матери) Только иногда вечером собаки поднимут лай, у нас переполох, тетя воружается кочергой, идет, нянька держится за юбку тетки, за нянькой кухарка и еврей, квартирант, вызванный теткой как мужчина, замыкает шествие, и трясется от страха, нянька читает молитву: «Сила Честнаго животворящего Креста!» Тетка еще у крыльца начинает кричать: «Выходи, такой сякой, кишки на кочергу намотаю!» Двигаются по двору и она все кричит, конечно ни кого, а мы тут трясемся от страха и любопытства, кто это там? Я всегда была очень разочарована, когда наше воинство возвращалось и говорило, что никого и ничего. Ведь этакия команды не раз собирались в зиму в поход на невидимого злодея, а в городе была тишь да гладь, даже обыкновенного воровства не случалось, но наши все боялись чего то, вот теперь бы, что с ними было бы, когда что не день то убийство, да грабежи, а мы живем себе без страха с весьма плохими запорами, привычка к ужасу наших дней сказывается, не было насилий, боялись разбоя, стали кругом разбои, не боимся. К Рождеству тетя ездила за Мишей и мы были в восторге от своего кадета, не отходили от него, а он то важничал перед нами; нашей Алекс. Сер. не было Рождеством с нами, она ездила в Москву к больной матери. Как мы с Сережей мучались этим; доняла она нас ужасно, и вот Сережа говорит: «Вот бы мать у нее заболела и она уехала бы от нас!» Что же, не проходит часа, телеграмма, мать ее тяжко заболела. Сережа почувствовал себя как бы виноватым и все волновался, говоря со мной о своем пожелании, я тоже чувствовала вину.
Святками мы ездили к П <иотровским>, у которых была дочка Настя и воспитанница Вера, мы сдружились и время хорошо прошло, была у них елка, не хотелось уезжать домой, но ехать надо было, так как 5 Января везли Мишу в Орел. Увезли Мишу и мы стали ожидать А <лександру> С <ергеевну>, которая должна была съехаться с тетей на ст. и с нею приехать – приехали они и с ними Маша. А.С. долго что-то рассказывала, мама качала головой, тетка уже с Машею не говорила, Маша была грустна и обижена, я видела это, но ничего не понимала, потом уж из откровенных фраз, намеков, вообще наши старухи не стеснялись нашим присутствием, я поняла, что тетка заметила ухаживание Ал <ександра> Ан <тоновича> и недовольство его жены, сделала Маше в присутствии Ал. Ан. сцену и велела собираться домой, и так как тетку все боялись, Маша беспрекословно уехала, так ли это было, не знаю, но у меня сложилось в голове так. Маша же стала реже ездить туда, хотя все таки ездила, за Машей также ухаживал Ан. Ад., дома же ей тяжело жилось, а кто притягивал ее туда, Ал. Ан. артиллерийский офицер или Ан. Ад., страшно некрасивый и комик. Смутно я догадывалась о ухаживанье. К Пасхе Мишу не брали, наша жизнь разнообразилась только свадьбой жандарма, на которой мы были, так как наш квартирант сменивший долго жившего еврея, которого, как не имеющего права жительства, выселили совсем из города, хотя он целые три года откупался от полиции, а тут знать не осилил заплатить обнаглевшему квартальному, его выселили; как мы жалели Якова Самуиловича и жену его Ривку, такие они были хорошие оба (бедны были страшно), так вот этот квартирант выдавал свою сестру замуж за жандарма, мы очень развлекались этим, наши А <лександра> С <ергеевна>, Ав <дотья> Дм <итриевна>, Маша даже наряжались и завивались на эту свадьбу, памятна она мне осталась, потому что когда собрались гости, в числе которых был дьякон и подпольный адвокат, оба сильно пьяные, мы с А.С. все время говорили по французски, вот аблакат подходит к нам и говорит: «Вот что барышни, по французски говорите в обществе себе равных, не на свадьбе жандарма, так каждый из нас может думать, что вы говорите о нем, в нашем обществе говорить по французски даже неприлично!» Сконфузилась моя А. С. Еще потеха была, Ав. Дм. к делу и не к делу в разговоре всегда говорила: «в этом», а бывший здесь дьякон ко всему прибавлял: «в том то и дело!» Сидят Ав. Дм. и дьякон и беседуют, она беспрестанно говорит «В этом?» А дьякон: «В том то и дело!» Было комично.
Миша приехал в начале Апреля домой, в корпусе была свинка и их распустили, с его приездом стало веселей, хотя он сначала смотрел на нас свысока, а потом опять стал Мишей, а не Орловским кадетом. Среди лета наша А.С. опять была вызвана в Москву к умирающей матери, на этот раз мы ей этого не желали, но все таки без нее было лучше. Сережа был страшно нервный мальчик, а А.С. его часто раздражала и он рыдал так, что у меня сердце сжималось от жалости к нему, вообще я Сережу любила какой то жалостной любовью, его мне всегда было жалко (так до самого конца его жизни я его любила и жалела), а с отъездом А.С. как то ровней у нас стало. Не помню, сколько время она проездила, но однажды мама с нами ходила гулять и уже возвращаясь домой мы встретили дядю Андрея, который сказал, что был у нас и приехала А.С. и добавил: «Мать то у нее наконец умерла!» Мы бежим уже с трепетом домой, она нас встречает вся в слезах говорит мне что: «Votre oncle est tout ? fait sot ou mechant. Je lui disais que je suis apresant uneorphelinne, et votre oncle dit moi „Grace ? Dieu, А.С.“ Ma m?re est morte, а il parle comme un homme mechant!»[3 - Ваш дядя совсем глупый или злой. Я ему сказала, что я теперь сирота, а ваш дядя мне говорит «Слава Богу, А.С.» Моя мать умерла, а он говорит как злой человек! (фр. с ошибками: apresant вместо ? prеsent, orphelinne с двумя n вместо одного).]
Дядя был глухой и мне стало его жаль и смешно очень и говорю по русски: «Дядя, верно, подумал, что вы говорите: вот я и приехала!» Он и сказал: «Слава Богу!» Нет, наша А.С. заливается слезами от обиды. Потянулись опять наши занятия, Мишу отвезли и мы снова по очереди состоим в любимцах. В городе было большое оживление, открытие жел. дороги[4 - железнодорожная станция в Ефремове открылась в 1874 году.] и Мишу уже повезли с разрешения начальства по ж.д., но на рабочей платформе, полной народа, ходили смотрители ж.д. и наша Ав. Дм. говорила, что тут действует нечистая сила и покойный митрополит Филарет не благословил ж.д., откуда она это взяла, кто ее знает; еще казус такой, учу я урок географии о земле, она слышит и говорит маме: «Ю <лия> С <тепановна>, вот так и развивается негелизм, ведь это безб <ожие>, я бы на Вашем месте запретила эти уроки!» Хорошо, что А.С. не слышала, а то была бы история, она с Ав. Дм. никогда не говорила и иначе не называла как «Cette personne»[5 - эта особа (фр.).].
К этому ж времени у нас объявился «политический», говоря современным языком, а тогда это был «негелист» по понятиям Ав. Дм. Сей политический был контролер на ж.д. и стоял у нашего знакомого дьячка довольно глупого, по доносу протопопа сего контролера забрали, дьячек все это нам в лицах представлял и до того путал, что его бросили даже допрашивать и не возили в Петербург, куда других возили, протопопа, семинарских учителей, учительниц, про этих последних говорили, что их будто высекли в 3-ем отделении, рассказывали так, что каждую по очереди сажали в кресло, кресло проваливалось и их под полом секли, все конечно этому верили, а дьячек Егор Мефодьевич говорил, что Царь наш дрянь и пора его убить! Теща на него кричала, называла дураком, тесть приходил и жаловался и просил уговорить Мефода (так мы его звали) не болтать. Но во всяком случае Мефод Аникееву не повредил, он нес чушь, следователи долго с ним бились и бросили его – а вот теперь бы наш Мефод насиделся бы в тюрьме, не посмотрели бы на его глупость. А книги то Мефод пожег в печи еще раньше обыска и этого не сказал жандармам, ему жена Аникеева принесла и просила сжечь, куда честный простой, глупый дьячек против протопопа, который книги брал у А <никеева> и донес на него.
Судили и сослали, судили не у нас, не знаю где, протопопа тетя с тех пор видеть не могла и звала «жандарм синие портки». Хотя политического тоже ругала, как ругала А <лександра> II. Вот это было у нас первое политическое дело в нашем городе, всколыхнувшее наше болото.
Осенью этого года, уехала наша А <лександра> С <ергеевна> к нашей великой радости, отъезд был в высшей степени удивителен и не ожидан, вышло это так: мама взяла на квартиру дочь одной помещицы, которая училась в прогимназии, это ей кажется было не по нраву, она как то все стала дуться и вот раз вечером, мы читаем в троем по очереди, какой то переводный английский рассказ под заглавием: «Хроника семейной жизни», рассказ жалостный, смерть матери. Мы, трое, начинаем плакать, но не желая показать слез, удерживая их, начинаем истерически хохотать, слезы градом и хохочем; она сидела в темной гостиной и оттуда начинает по французски меня бранить, стало обидно, я ей отвечаю: «мы вовсе не смеемся!», отвечаю нарочно по русски.
Ужинать она не вышла и на утро, мы ожидаем ее в классе, она не идет и заявляет маме, что при таких злых детях она жить не хочет, оделась и ушла к нашим знакомым и оттуда прислала за своим имуществом. Мама, хотя ей тяжело было сейчас оставить нас опять без учительницы, не стала уговаривать ее, и вот мы снова без руководительницы, мама наученная горьким опытом уж не решилась брать гувернантку, а пригласила начальницу прогимназии давать нам уроки, и эти уроки продолжались больше двух лет, мы оба полюбили Софью Васильевну и всегда с нетерпением ждали ее прихода, особенно Сережа. Кстати надо сказать, что Сережа был преоригинальный мальчик, выдумал носить лапти, кухарка ежедневно приходила его обувать в них и обертывать ноги онучами, сверх подевки надевал белый фартук, вязал чулки и вышивал.
Весной мы ездили к Троице, т. е. в Сергиевскую Лавру под Москвой, как только Миша приехал из Орла, так мы и отправились. С нами ездили Маша и Коля, поездкой конечно были довольны, только я теперь забыла, какое впечатление произвела на меня тогда Лавра, только помню, что из Лавры мы в компании трех девиц и одной вдовы ходили в пещеры и Вифанию и я, как никогда не ходившая, так разбила ноги, что возвращаясь оттуда с трудом тащилась и горько плакала от боли ног. В Москве мы пробыли не долго, были в Кремле и только совсем забыла впечатление, но хорошо помню, что в Москве был пожар и недалеко от той гостиницы, где мы останавливались, гостиница «Лоскутная», и мы испугавшись шума, в том числе и Коля, которому уже было лет 16, запросились домой, отправились на вокзал, поезда нет, пришлось ночевать около вокзала в плохенькой гостинице. Утром угораздило сесть на дачный поезд до Серпухова, где пробыли до вечера, гуляли на какой то даче, качались на качелях, к нам присоединились какие то молодые люди, превесело было, это я помню. Потом мы ездили к П. в деревню гостить и там с Сережей вышел казус; Ан. Ад. живший у П. управляющим и живший не отдельно, а в семье П <иотровских>, вздумал жить самостоятельно, перешел во флигель (Ан. Ад. ссыльный поляк повстанец 63г., но православный, во время мытарств принявший православие – тоже верно ради хлеба насущнаго) устроил новоселье, мы все, П <иотровские>, Маша и соседи Боборыкины были у него, обедали, я сидела со взрослыми и с грустью поглядывала на стол детей, там сидели Миша, Сережа, Настя и Вера и очень весело хохотали. Кончился обед, мы, дети, вышли на крыльцо и Сережа все клал мне на плечо голову и вдруг вырвался через перила и моментально заснул, переполох между нами страшный, мама бледная, Ал <ександр> Ант <онович> волнуется, Б <оборыкин> тоже. Ал <ександр> Ан <тонович> берет его и несет в дом, голова у Сережи болтается, совсем мертвый, мы грустно потянулись за ними, сердце страхом замирает у меня. Положил его Ал <ександр> Ан <тонович>, спит, спит, еле слышно дыхание, мама села у ног. Я слышу, что Ал <ександр> Ан <тонович> говорит Настасье Яковлевне, своей жене: «Завтра велю запречь карету пораньше и скорей вести его в город, это что то ужасное!» А он спит себе да и только, и спал до 4х часов утра (с 4х вечера) когда проснулся, то говорит маме: «Есть хочу!» И объясняет, что во время обеда, ему сильно пить захотелось и он налил полстакана воды (а вода и водка были в одинаковых графинах) и выпил водки вместо воды, как не задохся!