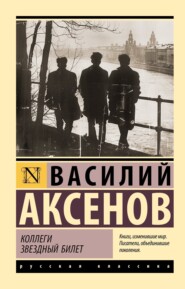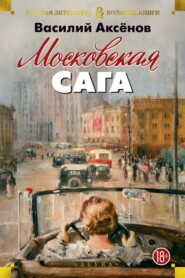По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Московская сага. Книга 2. Война и тюрьма
Автор
Серия
Год написания книги
1993
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А мы-то что, – возразили летчики. – Нам сказали, мы сделали, – и пошли расстроенные по домам: они уже успели проникнуться симпатией к своему жутковатому грузу.
Все-таки он не умер, а, напротив, за неделю в военном госпитале на куриных бульонах и рисовой каше, на уколах глюкозы с витаминами полностью пришел в себя и окреп.
Он лежал в отдельном боксе на чистых простынях. За окном на обледенелых ветках елей под дурным ноябрьским ветром раскачивались вороны. Для чего они так со мной возятся, гадал он. Может быть, готовится какой-нибудь пропагандистский процесс военных вредителей, чтобы оправдать поражения на фронте? Приговаривать к расстрелу надо все-таки не лагерного доходягу, а здорового цветущего врага, это логично.
Каждое утро санитар приносил ему «Известия» и «Красную звезду». Иногда ему казалось, что кто-то аккуратно следит за тем, чтобы он был в курсе событий. Превосходно умея читать газеты с их набором околичностей, недоговорок, двусмысленных словесных штампов, Никита без труда понял, что положение на фронте отчаянное, что не сегодня-завтра может произойти катастрофа и падет Москва. Впервые его стала задевать военная диспозиция. Он попросил карандаш и стал делать на полях газеты кое-какие тактические выкладки. Усилия советского командования были похожи на тришкин кафтан. Мысль о входе Гитлера в Москву вдруг показалась ему невыносимой.
Странным образом почти не вспоминался ему Зеленлаг, и только иногда в кошмарной дребедени сна, в которой собрались, казалось, все страхи его жизни, включая и кронштадтских матросиков, возникало монотонное движение тачки, бесконечно знакомая тропа, спуск в карьер, повторение, повторение, повторение, будто в жизни и смысла-то нет никакого, кроме повторения, будто он жил уже миллион жизней и в каждой из них вот так же тяжело поворачивалось колесо тачки.
Вдруг он заметил, что взгляд его следует за изгибами спины затянутой в белый халатик медсестры Таси. Однажды она будто почувствовала это и глянула внимательным глазом через плечо. В этот момент его вдруг протрясло неукротимое желание и без всяких уже «если – я – еще – значит – я – еще», а просто лишь жажда немедленных и самых активных действий, вот именно: сорвать с нее все, поднять ей ноги, раздвинуть рукой ее лепестки, войти, протрястись, исторгнуть... Тася после этого обмена взглядами стала приходить в бокс с помощницей.
Майор медицинской службы Гуревич ежедневно после осмотра садился на краешек постели и заводил философские разговоры, называя его Никитой Борисовичем.
– Вот иногда странные мысли посещают, Никита Борисович. Вы знаете, я убежденный материалист, но, если мы призываем человека к самопожертвованию, разве это не отголоски идеализма?
– Что мне предстоит, Михаил Яковлевич? – спрашивал его Никита.
Майор пожимал плечами:
– Сие не в нашей компетенции...
Вдруг однажды он пришел утром очень озабоченный, быстро проверил температуру, кровяное давление, прочитал свежие анализы и сказал:
– Поздравляю, Никита Борисович, вы в прекрасной форме, и сегодня, а именно вот прямо сейчас, мы с вами прощаемся.
В коридоре за стеклянной дверью уже маячила командирская фуражка. «Ну, вот и все, – подумал Никита. – Моя история завершается. Мучить себя больше не дам, подпишу все и на процессе скажу все, что требуется. Наше сопротивление для них ничего не стоит, ровным счетом ничего».
Прямо поверх больничной пижамы на него набросили тот же самый самолетный тулуп, посадили в «эмку». Стекла у нее были не завешены, и он смог рассмотреть небольшой поселок и окружающие сопки. Тайга здесь была не чета колымской, огромные ели и лиственницы мифической ратью уходили в поднебесье, в туман.
Поездка длилась недолго, минут через пятнадцать они подъехали к маленькому коттеджу, который, если бы не подмокшая штукатурка противного розового цвета, мог показаться предметом альпийской идиллии. Внутри было сильно натоплено, царил гостиничный уют с ковровыми дорожками, плюшевыми занавесками, неизменным «Буреломом» на стене, здоровенным радиоприемником. Сопровождавший лейтенант щелкнул каблуками, взял под козырек и удалился. Открылась дверь в соседнюю комнату, и на ее пороге появилась не кто иная, как медсестра Тася. На этот раз она была не в белом халате, а в шелковой кофточке, очень привлекательно облегавшей ее плечи и грудь.
– Вам надо переодеться, товарищ генерал-лейтенант, – нежнейшим женственнейшим голосом произнесла она. За ее спиной он увидел спальню с широкой кроватью, лежащую на кровати военную форму с генеральскими петлицами и тремя привинченными его орденами, а также стоящие возле кровати высокие хромовые сапоги.
Так и не поняв до конца, что происходит, и не задавая никаких вопросов, он бросился в спальню, схватил Тасю, стал с нее все снимать, терпения не хватило, повалил ее в задранной юбочке на кровать.
На этот раз телесный пир не доставил ему страданий, как в случае с сухим пайком, если не считать того, что от долго не проходящей и все возобновляющейся жажды он довольно сильно растер себе член.
Остаток дня он провел в сладчайшем плену Тасиных забот, она постригла ему волосы, побрила щеки, облачила в первоклассное трикотажное белье, галифе и китель тонкого сукна, спела несколько мелодичных украинских песен. Молодая женщина явно владела всеми способами обихаживания мужчин.
– А у нас сегодня гость к ужину, товарищ генерал-лейтенант, – наконец сказала она лукаво. – Нет-нет, не спрашивайте, будет сюрприз.
Гостем оказался генерал-майор Шершавый Константин Владимирович, которого Никита знал еще как Коку-со-штаба со времен службы в Белоруссии. В те времена тот был добрым малым, непременным участником командирских пьянок, гитаристом, знатоком минского и витебского женского контингента, словом, известным типом российского гусара, выскочившим на поверхность даже и в рядах пролетарского воинства. Теперь – заматерел, стал брыласт, под кителем катаются не только плечевые мускулы, но и перекаты боковиков, этой верхней задницы; глаза, впрочем, остались все те же, дружеские, веселенько-сальненькие; в общем, невзирая на высокий чин, все тот же я перед вами, Кока-со-штаба!
Прямо от дверей он бросился с открытыми объятиями, обхватил Никитину все еще зеленлаговскую тощую спину, разбросал мокрые поцелуи по всему Никитиному лицу – в щеку, в ухо, в глаз, наконец, прямо в губы от имени лейб-гвардии краснознаменного гусарского коммунистического!
– Никитушка, ты снова с нами! Вот счастье-то, вот радость для всей армии! Ведь ты же всегда украшением нашим был, любимцем кадрового состава! Мы же все просто зубами скрипели, когда тебя... Я лично зубами скрипел: ну, думаю, это уж чистая ошибка, уважаемые! Потом и меня загребли...
– Ты что, тоже сидел? – спросил Никита. Кого угодно, но только не Костю Шершавого он мог себе представить в арестантском бушлате.
– А как же! – радостно воскликнул тот. – Меня в тридцать девятом загребли, я тогда на Кавказе служил, у нас там всех подчистили до уровня комбатов. Да что ты, Никита, я ж всего полгода как с Интауголь!
За столом, подняв чуть не до люстры стаканище коньяку, Шершавый провозгласил тост:
– Пью за возвращение легендарного командира Никиты Градова в кадровый состав Красной Армии!
Коньяк ухнул ему внутрь с такой легкостью, как будто там была у него вместо внутренних органов просто обширная емкость для приема спиртного. «Дальневосточная – опора прочная!» – проголосил он и сел, действительно счастливый, нажратый и напитый, какой-то как бы вечный, из того разряда бездельников, без которых никакое дело не сдвинется с места.
– Третьего дня в Ставке, Никита, вообрази, кого встречаю – Костю Рокоссовского, своего тезку! Да-да, тоже освобожден, все ордена возвращены, уже получил колоссальное назначение! – Вдруг он повернулся к Тасе, которая подкладывала обоим генералам закусочки и сияла материнским счастьем. – Девушка, дорогая, погуляй, голубушка, полчасика где-нибудь, а? Пока не поднабрались, нам надо с генерал-лейтенантом посекретничать.
Тася дважды просить себя не заставила, накинула шубку, пошла прогуляться до «Военторга», заодно и купить генералу свитерок под китель, носки, подходящие его званию бритвенные принадлежности. Подслушивать секреты ей было без надобности, совсем не то от нее требовалось.
– Я к тебе с поpучением, Никита, – сказал Шершавый, – но только ты не думай, что от... – Он скосил глаза влево, вправо, посмотрел себе за спину на картину «Бурелом», глянул и на потолок. – Не от этих, клянусь, а от главкома-запад, да-да, непосредственно от Георгия Константиновича.
Н у, ты знаешь уже, как обстоят дела, даже из газет это видно, а на самом деле в пять раз хуже. Жуков тебя очень уважает, ну, в общем, в профессиональном смысле, и он велел тебе передать, что речь идет сейчас э-ле-мен-тар-но о судьбе отечества. Если Москва падет, рухнет все, а значит, мы на многие десятилетия станем немецкой колонией.
В этот момент Никита, крутивший в пальцах стакан и глядевший на скатерть, резко поднял голову и посмотрел на порученца.
Генерал-майор Шершавый драматически покивал:
– Тут я от себя, извини, Никита, добавлю. В такие минуты надо забыть о личных обидах, родина – это больше, чем... ты знаешь, о чем я говорю... Короче, тебе предлагается возглавить Особую ударную армию, которая сейчас формируется из свежих, уральских и сибирских частей. Нечего и говорить о том, что твое «блюхеровское дело» закрыто и ты полностью реабилитирован. Больше того, уже подготовлен указ о присвоении тебе следующего воинского звания, то есть генерал-полковника. Ну, каково?
– Это все согласовано со Сталиным? – тихо спросил Никита. Что-то отдаленно похожее на самолетную тошноту стало подниматься со дна то ли души, то ли желудка, то ли от избытка коньяку, то ли от лавины высших милостей.
– Непосредственно! – воскликнул Шершавый. – Выдам секрет, генерал-полковника тебе предложил лично Иосиф Виссарионович!
Никита посмотрел порученцу в глаза, там у него уже плескалась сталинская эйфория, джугашвилевский восторг, гипнотическое счастье от причастности к пахану. Биться за родину, защищать тем самым кремлевских уголовников, что за страшная и извечная доля! Драться против гитлеровской расовой гегемонии за гегемонию сталинского класса, за хевру!
Шершавый увидел, что ответного восторга в глазах Градова не возникает, обеспокоился, снова схватился за бутылку первоклассного «Греми»:
– Ну, я понимаю, что ты все это должен переварить, что все это так неожиданно, тебе надо все это сформулировать и для себя, и для дела, понимаю, Никита, и давай возобновим этот разговор завтра, лады?
Он снова махнул себе внутрь стакан темно-янтарной влаги, подцепил на вилку кус заливной осетрины.
– Но завтра, Никита, ты уже все должен решить. Дорог каждый час. Гудериан может прорвать наш фронт в любую минуту и не делает этого сейчас, по данным разведки, только из-за недостатка горючего...
После этой фразы генерал-майора вдруг стремительно развезло. В лучших традициях гарнизонных загулов он лез к Никите с поцелуями, орал о своих колоссальных связях в Ставке, бахвалился храбростью, стратегическим провидением, тактической смекалкой, клялся вместе погибнуть «на последнем редуте социализма», провозглашал беспрерывные тосты за победу, за русское оружие, за женщин, которые «фактически превращают нашу жизнь в увлекательное приключение»... Тут как раз вернулась Тася, и Шершавый вдруг, словно только что ее увидев, бурно восхитился прелестями этой, как он выразился, идеальной фронтовой подруги, стал предлагать тосты за нее, завидовать Никитиной удаче, недвусмысленно намекать и о своей причастности к этой удаче – «увы, по себе знаю, что значит отсутствие дамского общества», – потребовал гитару, как ни странно, тут же в чудном домике нашлась и гитара, запел приятным, хотя и пьяным баритончиком: «Сердце, тебе не хочется покоя», а потом, совсем уже «поехав», попросил у Никиты разрешения удалиться с Тасей на часок во вторую спальню, просто для того, чтобы она хоть раз в жизни познала настоящее женское счастье... Засим «отключился от сети», левой брыластой щекой слегка проехавшись по блюдцу с кетовой икрой.
Гитара тут перешла в умелые руки Таси, романтически зарокотала «Мой костер в тумане светит...». «Ну и бабу тут мне сочинили, ну и бабу», – пьяно подумал Никита, прогладил ее сильно вдоль позвоночника и вышел на крыльцо, чтобы отрезветь под морозным ветерком.
Здесь он нашел своего прежнего по ОКЗДВА шофера, сержанта Васькова, ныне, разумеется, пребывающего в старшинском звании. Морда у того за эти годы стала еще более хитрая и забронированная, не подступись. Васьков немедленно взял под козырек и прогаркал:
– Готов к выполнению ваших приказаний, товарищ генерал-полковник!
Ага, уже знает о третьей звезде! Никита чуть-чуть поскользнулся на крыльце и немедленно получил поддержку – васьковское верное плечо. Из открытой двери лилась Тасина песня, невнятно что-то бормотал в икру высочайший порученец.
Во всем, и в этом тоже, предстоит разобраться. Никита сильно потер себе лицо – раз, два, три – и в третий раз вынырнул из своих ладоней уже командующим Особой ударной армии. Во всем до мельчайших деталей начнем завтра же немедленно разбираться. Только тут он вдруг понял, что к нему пришел его истинный, мощный и непреклонный возраст.
Утром он предъявил Шершавому список из двух дюжин командирских имен. Генерал-майор, морщась от головной боли, прочел список, на каждой фамилии останавливаясь похмельным расплющенным пальцем.
Все-таки он не умер, а, напротив, за неделю в военном госпитале на куриных бульонах и рисовой каше, на уколах глюкозы с витаминами полностью пришел в себя и окреп.
Он лежал в отдельном боксе на чистых простынях. За окном на обледенелых ветках елей под дурным ноябрьским ветром раскачивались вороны. Для чего они так со мной возятся, гадал он. Может быть, готовится какой-нибудь пропагандистский процесс военных вредителей, чтобы оправдать поражения на фронте? Приговаривать к расстрелу надо все-таки не лагерного доходягу, а здорового цветущего врага, это логично.
Каждое утро санитар приносил ему «Известия» и «Красную звезду». Иногда ему казалось, что кто-то аккуратно следит за тем, чтобы он был в курсе событий. Превосходно умея читать газеты с их набором околичностей, недоговорок, двусмысленных словесных штампов, Никита без труда понял, что положение на фронте отчаянное, что не сегодня-завтра может произойти катастрофа и падет Москва. Впервые его стала задевать военная диспозиция. Он попросил карандаш и стал делать на полях газеты кое-какие тактические выкладки. Усилия советского командования были похожи на тришкин кафтан. Мысль о входе Гитлера в Москву вдруг показалась ему невыносимой.
Странным образом почти не вспоминался ему Зеленлаг, и только иногда в кошмарной дребедени сна, в которой собрались, казалось, все страхи его жизни, включая и кронштадтских матросиков, возникало монотонное движение тачки, бесконечно знакомая тропа, спуск в карьер, повторение, повторение, повторение, будто в жизни и смысла-то нет никакого, кроме повторения, будто он жил уже миллион жизней и в каждой из них вот так же тяжело поворачивалось колесо тачки.
Вдруг он заметил, что взгляд его следует за изгибами спины затянутой в белый халатик медсестры Таси. Однажды она будто почувствовала это и глянула внимательным глазом через плечо. В этот момент его вдруг протрясло неукротимое желание и без всяких уже «если – я – еще – значит – я – еще», а просто лишь жажда немедленных и самых активных действий, вот именно: сорвать с нее все, поднять ей ноги, раздвинуть рукой ее лепестки, войти, протрястись, исторгнуть... Тася после этого обмена взглядами стала приходить в бокс с помощницей.
Майор медицинской службы Гуревич ежедневно после осмотра садился на краешек постели и заводил философские разговоры, называя его Никитой Борисовичем.
– Вот иногда странные мысли посещают, Никита Борисович. Вы знаете, я убежденный материалист, но, если мы призываем человека к самопожертвованию, разве это не отголоски идеализма?
– Что мне предстоит, Михаил Яковлевич? – спрашивал его Никита.
Майор пожимал плечами:
– Сие не в нашей компетенции...
Вдруг однажды он пришел утром очень озабоченный, быстро проверил температуру, кровяное давление, прочитал свежие анализы и сказал:
– Поздравляю, Никита Борисович, вы в прекрасной форме, и сегодня, а именно вот прямо сейчас, мы с вами прощаемся.
В коридоре за стеклянной дверью уже маячила командирская фуражка. «Ну, вот и все, – подумал Никита. – Моя история завершается. Мучить себя больше не дам, подпишу все и на процессе скажу все, что требуется. Наше сопротивление для них ничего не стоит, ровным счетом ничего».
Прямо поверх больничной пижамы на него набросили тот же самый самолетный тулуп, посадили в «эмку». Стекла у нее были не завешены, и он смог рассмотреть небольшой поселок и окружающие сопки. Тайга здесь была не чета колымской, огромные ели и лиственницы мифической ратью уходили в поднебесье, в туман.
Поездка длилась недолго, минут через пятнадцать они подъехали к маленькому коттеджу, который, если бы не подмокшая штукатурка противного розового цвета, мог показаться предметом альпийской идиллии. Внутри было сильно натоплено, царил гостиничный уют с ковровыми дорожками, плюшевыми занавесками, неизменным «Буреломом» на стене, здоровенным радиоприемником. Сопровождавший лейтенант щелкнул каблуками, взял под козырек и удалился. Открылась дверь в соседнюю комнату, и на ее пороге появилась не кто иная, как медсестра Тася. На этот раз она была не в белом халате, а в шелковой кофточке, очень привлекательно облегавшей ее плечи и грудь.
– Вам надо переодеться, товарищ генерал-лейтенант, – нежнейшим женственнейшим голосом произнесла она. За ее спиной он увидел спальню с широкой кроватью, лежащую на кровати военную форму с генеральскими петлицами и тремя привинченными его орденами, а также стоящие возле кровати высокие хромовые сапоги.
Так и не поняв до конца, что происходит, и не задавая никаких вопросов, он бросился в спальню, схватил Тасю, стал с нее все снимать, терпения не хватило, повалил ее в задранной юбочке на кровать.
На этот раз телесный пир не доставил ему страданий, как в случае с сухим пайком, если не считать того, что от долго не проходящей и все возобновляющейся жажды он довольно сильно растер себе член.
Остаток дня он провел в сладчайшем плену Тасиных забот, она постригла ему волосы, побрила щеки, облачила в первоклассное трикотажное белье, галифе и китель тонкого сукна, спела несколько мелодичных украинских песен. Молодая женщина явно владела всеми способами обихаживания мужчин.
– А у нас сегодня гость к ужину, товарищ генерал-лейтенант, – наконец сказала она лукаво. – Нет-нет, не спрашивайте, будет сюрприз.
Гостем оказался генерал-майор Шершавый Константин Владимирович, которого Никита знал еще как Коку-со-штаба со времен службы в Белоруссии. В те времена тот был добрым малым, непременным участником командирских пьянок, гитаристом, знатоком минского и витебского женского контингента, словом, известным типом российского гусара, выскочившим на поверхность даже и в рядах пролетарского воинства. Теперь – заматерел, стал брыласт, под кителем катаются не только плечевые мускулы, но и перекаты боковиков, этой верхней задницы; глаза, впрочем, остались все те же, дружеские, веселенько-сальненькие; в общем, невзирая на высокий чин, все тот же я перед вами, Кока-со-штаба!
Прямо от дверей он бросился с открытыми объятиями, обхватил Никитину все еще зеленлаговскую тощую спину, разбросал мокрые поцелуи по всему Никитиному лицу – в щеку, в ухо, в глаз, наконец, прямо в губы от имени лейб-гвардии краснознаменного гусарского коммунистического!
– Никитушка, ты снова с нами! Вот счастье-то, вот радость для всей армии! Ведь ты же всегда украшением нашим был, любимцем кадрового состава! Мы же все просто зубами скрипели, когда тебя... Я лично зубами скрипел: ну, думаю, это уж чистая ошибка, уважаемые! Потом и меня загребли...
– Ты что, тоже сидел? – спросил Никита. Кого угодно, но только не Костю Шершавого он мог себе представить в арестантском бушлате.
– А как же! – радостно воскликнул тот. – Меня в тридцать девятом загребли, я тогда на Кавказе служил, у нас там всех подчистили до уровня комбатов. Да что ты, Никита, я ж всего полгода как с Интауголь!
За столом, подняв чуть не до люстры стаканище коньяку, Шершавый провозгласил тост:
– Пью за возвращение легендарного командира Никиты Градова в кадровый состав Красной Армии!
Коньяк ухнул ему внутрь с такой легкостью, как будто там была у него вместо внутренних органов просто обширная емкость для приема спиртного. «Дальневосточная – опора прочная!» – проголосил он и сел, действительно счастливый, нажратый и напитый, какой-то как бы вечный, из того разряда бездельников, без которых никакое дело не сдвинется с места.
– Третьего дня в Ставке, Никита, вообрази, кого встречаю – Костю Рокоссовского, своего тезку! Да-да, тоже освобожден, все ордена возвращены, уже получил колоссальное назначение! – Вдруг он повернулся к Тасе, которая подкладывала обоим генералам закусочки и сияла материнским счастьем. – Девушка, дорогая, погуляй, голубушка, полчасика где-нибудь, а? Пока не поднабрались, нам надо с генерал-лейтенантом посекретничать.
Тася дважды просить себя не заставила, накинула шубку, пошла прогуляться до «Военторга», заодно и купить генералу свитерок под китель, носки, подходящие его званию бритвенные принадлежности. Подслушивать секреты ей было без надобности, совсем не то от нее требовалось.
– Я к тебе с поpучением, Никита, – сказал Шершавый, – но только ты не думай, что от... – Он скосил глаза влево, вправо, посмотрел себе за спину на картину «Бурелом», глянул и на потолок. – Не от этих, клянусь, а от главкома-запад, да-да, непосредственно от Георгия Константиновича.
Н у, ты знаешь уже, как обстоят дела, даже из газет это видно, а на самом деле в пять раз хуже. Жуков тебя очень уважает, ну, в общем, в профессиональном смысле, и он велел тебе передать, что речь идет сейчас э-ле-мен-тар-но о судьбе отечества. Если Москва падет, рухнет все, а значит, мы на многие десятилетия станем немецкой колонией.
В этот момент Никита, крутивший в пальцах стакан и глядевший на скатерть, резко поднял голову и посмотрел на порученца.
Генерал-майор Шершавый драматически покивал:
– Тут я от себя, извини, Никита, добавлю. В такие минуты надо забыть о личных обидах, родина – это больше, чем... ты знаешь, о чем я говорю... Короче, тебе предлагается возглавить Особую ударную армию, которая сейчас формируется из свежих, уральских и сибирских частей. Нечего и говорить о том, что твое «блюхеровское дело» закрыто и ты полностью реабилитирован. Больше того, уже подготовлен указ о присвоении тебе следующего воинского звания, то есть генерал-полковника. Ну, каково?
– Это все согласовано со Сталиным? – тихо спросил Никита. Что-то отдаленно похожее на самолетную тошноту стало подниматься со дна то ли души, то ли желудка, то ли от избытка коньяку, то ли от лавины высших милостей.
– Непосредственно! – воскликнул Шершавый. – Выдам секрет, генерал-полковника тебе предложил лично Иосиф Виссарионович!
Никита посмотрел порученцу в глаза, там у него уже плескалась сталинская эйфория, джугашвилевский восторг, гипнотическое счастье от причастности к пахану. Биться за родину, защищать тем самым кремлевских уголовников, что за страшная и извечная доля! Драться против гитлеровской расовой гегемонии за гегемонию сталинского класса, за хевру!
Шершавый увидел, что ответного восторга в глазах Градова не возникает, обеспокоился, снова схватился за бутылку первоклассного «Греми»:
– Ну, я понимаю, что ты все это должен переварить, что все это так неожиданно, тебе надо все это сформулировать и для себя, и для дела, понимаю, Никита, и давай возобновим этот разговор завтра, лады?
Он снова махнул себе внутрь стакан темно-янтарной влаги, подцепил на вилку кус заливной осетрины.
– Но завтра, Никита, ты уже все должен решить. Дорог каждый час. Гудериан может прорвать наш фронт в любую минуту и не делает этого сейчас, по данным разведки, только из-за недостатка горючего...
После этой фразы генерал-майора вдруг стремительно развезло. В лучших традициях гарнизонных загулов он лез к Никите с поцелуями, орал о своих колоссальных связях в Ставке, бахвалился храбростью, стратегическим провидением, тактической смекалкой, клялся вместе погибнуть «на последнем редуте социализма», провозглашал беспрерывные тосты за победу, за русское оружие, за женщин, которые «фактически превращают нашу жизнь в увлекательное приключение»... Тут как раз вернулась Тася, и Шершавый вдруг, словно только что ее увидев, бурно восхитился прелестями этой, как он выразился, идеальной фронтовой подруги, стал предлагать тосты за нее, завидовать Никитиной удаче, недвусмысленно намекать и о своей причастности к этой удаче – «увы, по себе знаю, что значит отсутствие дамского общества», – потребовал гитару, как ни странно, тут же в чудном домике нашлась и гитара, запел приятным, хотя и пьяным баритончиком: «Сердце, тебе не хочется покоя», а потом, совсем уже «поехав», попросил у Никиты разрешения удалиться с Тасей на часок во вторую спальню, просто для того, чтобы она хоть раз в жизни познала настоящее женское счастье... Засим «отключился от сети», левой брыластой щекой слегка проехавшись по блюдцу с кетовой икрой.
Гитара тут перешла в умелые руки Таси, романтически зарокотала «Мой костер в тумане светит...». «Ну и бабу тут мне сочинили, ну и бабу», – пьяно подумал Никита, прогладил ее сильно вдоль позвоночника и вышел на крыльцо, чтобы отрезветь под морозным ветерком.
Здесь он нашел своего прежнего по ОКЗДВА шофера, сержанта Васькова, ныне, разумеется, пребывающего в старшинском звании. Морда у того за эти годы стала еще более хитрая и забронированная, не подступись. Васьков немедленно взял под козырек и прогаркал:
– Готов к выполнению ваших приказаний, товарищ генерал-полковник!
Ага, уже знает о третьей звезде! Никита чуть-чуть поскользнулся на крыльце и немедленно получил поддержку – васьковское верное плечо. Из открытой двери лилась Тасина песня, невнятно что-то бормотал в икру высочайший порученец.
Во всем, и в этом тоже, предстоит разобраться. Никита сильно потер себе лицо – раз, два, три – и в третий раз вынырнул из своих ладоней уже командующим Особой ударной армии. Во всем до мельчайших деталей начнем завтра же немедленно разбираться. Только тут он вдруг понял, что к нему пришел его истинный, мощный и непреклонный возраст.
Утром он предъявил Шершавому список из двух дюжин командирских имен. Генерал-майор, морщась от головной боли, прочел список, на каждой фамилии останавливаясь похмельным расплющенным пальцем.