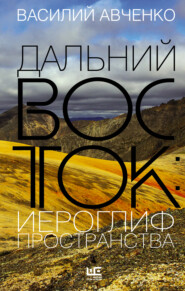По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В реках Приморья нерестится и лосось, хотя нам далеко до Сахалина и Камчатки; основная и самая ценная красная рыба пасётся севернее. С нашими горбушей, кетой и симой мы смотримся достойно, но скромно.
«Красной рыбой» сегодня называют лососёвых, а когда-то называли осетров – слово «красный» применяли не для обозначения цвета, а в смысле «красивый, ценный, лучший» (отсюда же – устаревшие выражения «красная дичь», «красный зверь»). Само понятие «лосось» столь же расплывчато, как и просторечное «красная рыба». Кто что понимает под лососями – всякий раз надо разбираться отдельно, тем более что родичами «настоящих» лососей числятся хариусы, корюшки, сиги…
Красная рыба никогда не была моей любимой. Ещё Арсеньев справедливо писал о кете: «Сперва мы с жадностью набросились на рыбу, но вскоре она приелась и опротивела». Самое интересное, что так же происходит и с икрой. Это я открыл для себя, отмечая свое 20-летие на нересте горбуши в компании учёных, браконьеров, удэгейцев и большого количества спирта. Было это на реке Кеме, неподалёку от названного в честь французского адмирала посёлка Терней. (Одноимённую бухту Приморья открыл и назвал в 1787 году Лаперуз; говорят, не успели французы бросить якоря и удочки, как на крючки начала кидаться крупная треска.) Горбуша шла из океана в устье реки, как Александр Матросов на пулемёт. Ползла по камням, высовывая серебристые спины из воды. Мы вынимали её и поедали икру, чуть присаливая, – получалась «пятиминутка». Икру, извлечённую из брюха только что пойманной рыбины, на несколько минут помещают в раствор соли, освобождают от ястычных плёночек и едят. Не понимаю тех, кто кладёт икру на хлеб с маслом: икра самодостаточна. Ладно ещё хлеб – он не столько играет самостоятельную гастрономическую роль, сколько выполняет функцию подложки, но зачем портить вкус свежей икры сливочным маслом? Хотя, признаюсь, сам люблю смешать икру с чёрным молотым перцем, нерафинированным подсолнечным маслом, покрошенным чесноком – и так есть.
Россыпь икринок заставляет задуматься о вечном. Икра – множество потенциальных жизней, судеб, сюжетов, различных вариантов действительности, зародышей чего-то потенциально более полноценного. Каждый человек – икринка, которой невероятно повезло.
Икра по определению избыточна. Чтобы несколько икринок стали рыбинами, должны появиться тысячи икринок, каждая из которых ничем не хуже и не лучше других. В человеческом обществе подобное происходит с так называемыми гениями: чтобы возник один гений, нужны тысячи так называемых посредственностей и десятки так называемых талантов.
Язык тоже избыточен, как и икра. Иногда я не могу понять, зачем нужно столько дублирующих друг друга слов: звучат они по-разному, но чем отличаются по смыслу – порой непонятно. Для чего языку столько страховочных конструкций – для надёжности, для красоты? Или – просто исторически сложилось: зародились какие-то параллельные корни – и остались, как остались в истории Великой Отечественной конкурировавшие между собой советские истребители МиГ, Як и ЛаГГ, зачатые в нервах и поту предвоенной конструкторской лихорадки? Какие-то слова отмирали, какие-то оставались, успешно дублируя друг друга и деля сферы влияния.
Икра – «икура» – редчайший пример заимствования японцами русского слова. Случай столь же нетипичный, как и заимствование японских слов русским языком, – разные «самураи» и «гейши» не в счёт, потому что они сохраняют иностранное гражданство, даже получив разрешение на работу в русском языке за неимением местных аналогов; это заимствованные из японского слова, обозначающие японские же понятия, тогда как «иваси» и тем более «вата» давно стали понятиями нашими, русскими, подвергшись «разъяпониванию».
Как-то я был на рыбоводном заводе в Барабаше, где красную икру искусственно оплодотворяют, выращивают мальков и потом выпускают в реку.
– Мы их кормим, доводим до массы примерно полтора грамма каждый и выпускаем в реку. Кета спускается к морю, но через четыре года возвращается сюда, в родные места, – рассказывал директор, эталонный дальневосточник – кореец с русским именем-отчеством и украинской фамилией. – У них свой «глонасс» в голове…
Потом мы везли самок-икрянок в город, остерегаясь попасться патрулю. Теоретически нас могли наказать как браконьеров. Практически – по обочинам через каждый километр стояли хмурые пареньки с прозрачными пластиковыми баночками, просвечивающими оранжевым.
Погуляв в море, лосось возвращается на родину, как гастарбайтер с заработков (предки нынешних лососей были рыбами сугубо пресноводными, чем всё и объясняется; примерно как с нами, русскими, – мы были речными, а стали теперь и морскими). У лосося – пресное детство и пресная старость, но солёная зрелость. Речка, где он появился на свет и куда возвращается, чтобы выстрелить молоками и умереть сгорбившимся, подурневшим, измученным и израненным, – это роддом. В пресной колыбели можно рождаться и умирать, но жить нужно в море. «Смерть красных рыб» – написать бы такой роман.
«О быстроте хода и о тесноте можно бывает судить по поверхности реки, которая, кажется, кипит, вода принимает рыбий вкус, вёсла вязнут и, задевая за рыбу, подкидывают её. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются “кочеванием до смерти”, потому что ни одна из рыб не возвращается в океан, а все погибают в реках», – писал Чехов в своих сахалинских записках. Здесь же он цитирует Александра Миддендорфа – русского географа и ботаника, основоположника мерзлотоведения: «Неодолимые порывы эротического влечения до издыхания… и такие идеалы в тупоумной влажно-холодной рыбе!» (И это задолго до Фрейда.)
Названия лососей выразительны, экзотично-грубоваты, обильны на ассоциации. Нерка, кижуч, горбуша, мальма, нельма, сима, кунджа, чавыча, кета… «Кета» у нанайцев значит просто «рыба». Впрочем, далеко не просто рыба. Это примерно то же, что «хлеб» по-русски. Рыба наша насущная. А для чукчей то же – морские звери. «Кит давал чукче всё», – писал Рытхэу, фамилия которого созвучна с именем чукотского кита – «ръэу».
Нельму прописал в нашей словесности Иван Гончаров, распробовавший её в Якутске: «…Здесь есть превосходная рыба – нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах». Анастас Микоян вспоминал, как Сталин поручил ему доставить в Москву свежую нельму, которую вождь, скорее всего, оценил ещё в туруханской ссылке: «Я впервые в жизни узнал, что можно есть сырую рыбу. Вначале было противно даже трогать её… Крепко замороженная, как камень, тонко наструганная ленточками, она сразу подавалась на стол, чтобы не разморозилась. Пробовали сперва несмело, а потом понравилось. Ощущение во рту было приятное, как будто кондитерское изделие. Брали рыбу, потом чеснок и соль и сразу же запивали рюмкой коньяку».
К сёмге я отношусь с предубеждением, как ко всему атлантическому.
Другое дело – чавыча. «Чавычей» назывался первый пароход первой в мире lady-captain Анны Щетининой. Что-то есть язычески уважительное к природе в том, чтобы называть суда именами водяных обитателей. Если именем чавычи нарекли пароход, значит рыба – больше чем еда и объект промысла. Это своего рода молитва богу рыболовства, заговаривание природы: пароход, названный именем рыбы, не должен утонуть.
Странно, что в раннем футуристическом (и безбожном лишь внешне) СССР именами рыб не называли людей.
* * *
Пока не поздно, сделаю необходимое пояснение. У меня нет никакого уникального опыта. Это я не только признаю – я настаиваю на этом, подчёркиваю это. Я не заядлый рыбак и вообще, наверное, не рыбак; я не «дайвер», не путешественник, не спортсмен, не сплавщик, не биолог и тем более не ихтиолог. У любого из названных – больше информации, совершеннее методика её осмысления, да и просто больше опыта. Я всего лишь человек, живущий у моря. Будь я учёным или рыбаком-профи – я был бы перегружен специальной информацией, перенасыщен впечатлениями, потерял бы ощущение причастности к чуду, которое меня посещает всякий раз, когда я гляжу на морду камбалы – свежевыловленной или уснувшей на рыночном прилавке. Хочется верить в то, что мой восторженный дилетантизм – это преимущество. Я не делюсь экзотическим опытом – я говорю о повседневности. По крайней мере, так я оправдываюсь, когда думаю о том, что, возможно, вообще не имею права писать о рыбе и море. Почти любой из моих земляков знает о рыбах куда больше, чем я, – не в разы, а на порядки больше – и на порядки же больше имеет опыта. Но никто из них не пишет о том, о чём мне хотелось бы читать. Молчит и сама рыба. Поэтому говорить приходится мне.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: