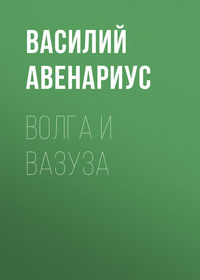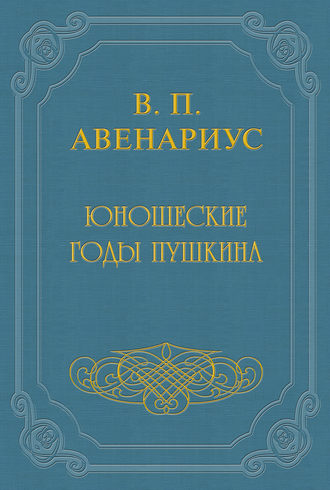
Юношеские годы Пушкина

Василий Петрович Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Биографическая повесть
Пока не требует поэтаК священной жертве Аполлон,В заботах суетного светаОн малодушно погружен……Но лишь божественный глаголДо слуха чуткого коснется,Душа поэта встрепенется,Как пробудившийся орел.«Поэт»Глава I
Лицейское междуцарствие
Лошади шли шагом и скоро стали.
– Что же ты не едешь? – спросил я ямщика с нетерпением.
– Да что ехать? – отвечал он, слезая с облучка. – Невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом.
«Капитанская дочка»В солнечный полдень весною 1814 года по крайней аллее царскосельского дворцового парка, прилегающей к городу, брели рука об руку два лицеиста. Старший из них казался на вид уже степенным юношей, хотя в действительности ему не было еще и шестнадцати лет. Но синие очки, защищавшие его близорукие и слабые глаза от яркого весеннего света, и мечтательно-серьезное выражение довольно полного, бледного лица старообразили его. С молчаливым сочувствием поглядывал он только по временам на своего разговорчивого собеседника, подростка лет пятнадцати, со смуглыми, неправильными, но чрезвычайно выразительными чертами лица.
– Что же ты все молчишь, Дельвиг? – нетерпеливо прервал последний сам себя и, сняв с своей курчавой головы форменную фуражку, стал обмахиваться ею. – Однако, как жарко!..
– Да… – согласился Дельвиг, как бы очнувшись от раздумья.
– Что «да»?
– Жарко.
– Ну, вот! Битый час рассыпаю я перед ним свой бисер…
– Да я совершенно согласен с тобой, Пушкин…
– В чем же именно? Ну-ка повтори!
Дельвиг усмехнулся пылкости приятеля и дружелюбно пожал ему рукою локоть.
– Повторить, брат, не берусь. Я следил не столько за твоим бисером, как за тобой самим, и с удовольствием вижу, что ты делаешься опять тем же живчиком, каким был до смерти Малиновского.
– Да, жаль Малиновского! – вздохнул Пушкин, и легкое облако грусти затуманило его оживленный взор. – Такого директора нам уж не дождаться…
– Ну, жаловаться нам на свою судьбу покуда грех: учись или ленись – ни в чем ни приказа, ни заказа нет; распевай себе свои песни, как птичка Божия…
– То-то, что еще не поется!.. Смотри-ка, кого это к нам несет? – прибавил он, подходя к чугунной решетке парка. – Такую пыль подняли, что и не разглядишь.
Из-за столба пыли, приближавшегося по большой дороге, вынырнула в это время верхушка старомодной почтовой громады колымаги.
– Ноев ковчег! – рассмеялся Пушкин. – А на козлах-то, гляди-ка, рядом с ямщиком, старая ведьма киевская!..
– И нас с тобой, кажется, увидела, – подхватил Дельвиг, – машет сюда рукой…
– Верно, тебе, барон!
– Нет, я ее не знаю. Вот и зубы оскалила, головой кивает: верно, тебе, Пушкин.
Но Пушкин уже примолк и судорожно схватился рукою за холодную решетку.
«Неужели это няня Арина Родионовна?» – промелькнуло у него в голове, и дух у него заняло, сердце забилось.
Между тем колымага по ту сторону решетки поравнялась уже с ними. «Киевская ведьма» наклонилась с козел к окну колымаги. И вот оттуда, из-под развевающегося голубого вуаля, выглянуло свежее, как розан, личико.
– Александр! – донеслось к нему. Белый носовой платок взвился в воздухе – и колымага прогромыхала мимо, заволакиваясь прежним облаком пыли.
– Оля! – вырвалось у Пушкина, и он бегом пустился по тому же направлению, вверх по аллее, к выходным воротам парка.
– Кто это? – кричал ему вдогонку Дельвиг.
– Наши! – ответил, не оглядываясь, Пушкин и, добежав до ворот, бросился через улицу к лицею.
«Ноев ковчег» стоял уже у лицейского подъезда. Швейцар высаживал оттуда под руку видную даму лет тридцати пяти.
– Матушка! Какими судьбами? – окликнул ее по-французски Пушкин и хотел кинуться к ней на шею.
– Что с тобой, Александр? Обниматься на улице! – на том же языке охладила мать его неуместный порыв и дала ему приложиться только к ее лайковой перчатке.
Барон Дельвиг остановился на тротуаре в десяти шагах от них и был невольным свидетелем этой форменной встречи.
«Так вот она, Надежда Осиповна Пушкина, прекрасная креолка, как зовут ее во всей Москве, – сказал он про себя. – Действительно, она еще очень хороша, и какое изящество в каждом движении, какая надменность в осанке!»
Вслед за Надеждой Осиповной из колымаги выпорхнула, уже без помощи швейцара, молоденькая барышня. По фамильному сходству Дельвиг тотчас сообразил, что это сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. Она, как видно, приняла к сведению замечание матери, потому что мимолетом только коснулась губами щеки брата.
Зато сползшая с козел старушка няня дала полную волю чувствам: пригнув к себе голову своего питомца, она так и прильнула к нему, осыпая поцелуями то одну его щеку, то другую.
– Сердечный ты мой! Сокровище мое! Единственный мой!.. – приговаривала она.
– Ты с ума сошла, Родионовна?! – старалась ее урезонить барыня.
– Помилуйте, сударыня! – оправдывалась расчувствовавшаяся старушка. – Не я ли его с самых пеленок взростила? Дороже он мне и родных-то ребят, ей-Богу, правда!
– Ну, ну, не рассуждай, пожалуйста! Полезай себе опять на козлы: скоро поедем дальше, – оборвала ее Надежда Осиповна; потом обратилась по-французски к сыну: – А уж тебе-то как не совестно, Александр?
Александр насилу высвободился из объятий няни; на глазах его блестели слезы, когда он взглянул на стоявшего тут же Дельвига. Выражения глаз последнего нельзя было заметить за синими очками, но игравшая на губах его улыбка как бы говорила: «Вот тебе и киевская ведьма!»
Раскрасневшийся Пушкин только улыбнулся в ответ: старушка няня его, хотя и вся бронзовая от загара, имела такую простодушную, чисто великорусскую физиономию и выказала к нему такую непритворную материнскую нежность, что заподозрить в ней малорусскую ведьму, конечно, никому бы и в голову не пришло.
Надежда Осиповна вошла между тем в прихожую лицея и на ходу, через плечо, небрежно сказала швейцару:
– Нельзя ли позвать ко мне пансионера Льва Пушкина?
– Слушаю-с, ваше превосходительство! – подобострастно отвечал швейцар, который с первого взгляда признал в ней по меньшей мере генеральшу.
Надежда Осиповна стала подниматься во второй этаж, шурша по каменным ступеням лестницы своим дорожным шелковым платьем; дочь и сын следовали за нею.
Здесь же, на лестнице, Ольга Сергеевна, украдкой от матери, крепко чмокнула брата и окинула его сияющим взглядом.
– Как ты, однако, Александр, вырос!
– И ты не меньше стала, – отшутился он, – совсем как взрослая – в длинном платье!
– Да ведь мне уж семнадцатый год. Ты меня сколько лет не видал. Но вот теперь мы будем видеться часто. Лето мы еще проведем в Михайловском[1], а к осени совсем уже переедем в Петербург.
– Вот как! И папа тоже? Отчего он не с вами?
– Папа? Да разве ты не знаешь, что он зимой еще отправился из Москвы в Варшаву начальником этой комиссариатской, что ли, комиссии нашей резервной армии?
– Да, правда, ну и что же?
– Ну и надоело ему, кажется, бросает службу и на днях должен съехаться с нами в Петербурге.
В приемной Надежду Осиповну встретил сухощавый и вертлявый чиновник. Осведомившись о цели ее прибытия, он с неловким поклоном отрекомендовался ей:
– Надзиратель по учебной части Василий Васильевич Чачков.
– Чачков? – переспросила Надежда Осиповна. – А не Пилецкий?
– Совершенно справедливо-с, – залебезил надзиратель, – предместник мой точно назывался Пилецкий-Урбанович, но месяца два назад его… как бы лучше выразиться?..
Он замялся и опасливо оглянулся на молодого Пушкина. Но тот с сестрою удалился уже в углубление окна, чтобы продолжать с нею там прерванную беседу.
– Не угодно ли вам присесть, сударыня? – спросил Чачков, указывая почетной гостье на клеенчатый диван.
Она села, а он остался на ногах перед нею и продолжал пониженным голосом:
– С предместником моим, изволите видеть, учинилось здесь нечто необычайное… Разве сынок ваш ничего не отписал вам?
– Писал, кажется, – как теперь припоминаю, – что Пилецкий ушел, но и только.
– Ушел… гм! Да-с… но форсированным маршем.
– То есть его «уходили»?
– Хе-хе-хе! Тонко изволили заметить. Однако мало ли что болтают. Не всякому слуху верь. Воспитанники, словно сговорившись меж собой, хранят дело в тайне. Нам же, начальству, ведомо лишь, что у них с господином Пилецким было секретное собеседование при закрытых дверях. О чем? Одному Богу да самим им только известно. На другое же утро господина Пилецкого и след простыл: укатил в Петербург невозвратно. Да-с, сударыня! – вздохнул преемник Пилецкого и снова покосился на Пушкина. – Могу сказать, тяжеленько-таки нынче нашему брату! Директора нам все еще не дают, и живем мы между небом да землей, как на шаре воздушном.
– Да ведь кто-нибудь поставлен у вас на место директора?
– Положим, что так… Я вас, сударыня, не беспокою своим разговором?
– Нет, отчего же! Мне, напротив, любопытно знать, какой у вас тут надзор за детьми.
– А мне, осмелюсь доложить, некая даже потребность облегчить душу… Как скончался, изволите видеть, в марте месяце покойный директор Малиновский (достойнейший, говорят, был человек; не имел чести его знать), так, впредь до окончательного назначения ему преемника, обязанности директорские его сиятельство граф Алексей Кириллович (министр наш, Разумовский) изволил возложить на старшего из господ профессоров, Кошанского. Но беда беду родит. Господина Кошанского постигла тоже тяжкая болезнь. И вот власть разделили: каждый из господ профессоров директорствует поочередно. Все они, положим, люди препочтенные, но бывают здесь только наездом из Петербурга и спешат «распорядиться» каждый по своей части, не справясь толком, согласуется ли, нет ли «распоряжение» с мерами прочих содиректоров. Коли уже у семи нянек дитя без глазу, так спрашиваю я вас, сударыня: каково-то нашему многоголовому детишу-лицею у семи ученых мужей? Чем дальше в лес, тем больше дров, а где лес рубят, там щепки летят. Первой такой щепкой был мой бедный предшественник, второй щепкой чуть-чуть не сделался эконом наш Золотарев…
– А что было с ним?
– Что было с ним?.. – повторил Чачков и прикусил язык. Теперь только как будто спохватился он, что чересчур уж откровенно излил перед посторонним лицом накипевшую у него на сердце горечь. – Да так, ничего-с, маленькое недоразумение с одним из воспитанников, но все теперь, слава Богу, улажено, а кто старое вспомянет, тому глаз вон.
– Надеюсь, что воспитанник этот был не сын мой Александр? – спросила Надежда Осиповна, строго поглядывая в сторону сына.
– О нет-с!.. Скажу прямо: то был граф Броглио… Так вот как, сударыня. Одно слово: «междуцарствие», как метко прозвали сами господа лицеисты это переходное время-с. И приходится нам, начальству их, идти потихонечку-полегонечку, лавировать, как меж подводных рифов, между строгостью и лаской.
Как нарочно, надзирателю пришлось тут же показать это «лавирование» на деле. В приемную вошел в высоких ботфортах, с хлыстом в руке темнолицый, чернобровый геркулес-лицеист. Похлопывая хлыстом по ботфортам, он так самоуверенно огляделся кругом, так беззастенчиво прищурился своими как смоль черными глазами на сидевшую на подоконнике, рядом с братом, Ольгу Сергеевну, что та вспыхнула и потупилась. С тонкой усмешкой переглянувшись с Пушкиным, он прошел далее.
– А, граф! – обратился к нему с товарищескою фамильярностью надзиратель. – Ну что, наездились верхом?
– Наездился, – нехотя отозвался тот и, проходя мимо, еще пристальнее всмотрелся в лицо красавицы матери своего товарища.
– Кто этот нахал? – спросила, негодуя, Надежда Осиповна, когда граф-наездник скрылся за дверью.
– А это, сударыня, тот самый граф Броглио, о котором я имел честь давеча вам докладывать. Он пользуется у нас привилегией ездить верхом в здешнем гусарском манеже.
Влетевший в это время вихрем второй сын Надежды Осиповны, Лев, Леон или Левушка, прервал разговор ее с надзирателем. Обняв и расцеловав по пути сестру у окна, он бросился к матери и, уже без околичностей, сжал ее также в объятиях. Младший сын был ей, очевидно, дороже первенца. Сама порывисто приголубив мальчика, она усадила его около себя, вышитым батистовым платком отерла ему разгоряченное лицо и с одобрительной улыбкой заслушалась его детской болтовней.
Надзиратель Чачков деликатно отошел в сторону, да ему было теперь и не до них, потому что воспитанники, возвращавшиеся один за другим с прогулки и с шумным говором проходившие через приемную в столовую, требовали его полного внимания; каждому говорил он что-нибудь, по его мнению, подходящее и приятное.
– Дельвига я сейчас узнала на улице по его синим очкам, – говорила полушепотом Ольга Сергеевна брату, который должен был называть ей по именам всех товарищей, проходивших мимо как бы церемониальным маршем.
– А этот блондин, верно, князь Горчаков? – спросила она, когда мимо них прошли опять два лицеиста, блондин и брюнет: первый – писаный красавец; второй – тщедушный, неприглядный малый, с крупным носом и заметными уже усами.
– Да, Горчаков, – отвечал Александр. – Ты как догадалась, Оля?
– Да ведь ты же писал мне, что он в своем роде Аполлон Бельведерский…
– Не правда ли? Но он прекрасен не только телом, но и душой. Впрочем, Суворочка ему в этом отношении ничуть не уступит.
– Суворочка?
– Ну, да, тот брюнет, что шел с ним, – Вальховский, Суворочка или Sapientia[2].
– За что вы его так прозвали?
– За его выдержку и рассудительность. Поверишь ли: чтобы не изнежить своего слабого тела, он спит нарочно на голых досках, встает зимой в 4, летом в 3 часа утра; чтобы приучить себя к голоду, он постится по неделям, даже в мясоед отказывается от пирожного, от чаю; наконец, даже приготовляясь к урокам, чтобы тело не отдыхало, он кладет себе на плечи по толстейшему тому словаря Гейма. Прямой спартанец или Суворов.
– И, вероятно, тоже из первых учеников?
– Да, они оба с Горчаковым перебивают друг у друга пальму первенства; но, как ты сейчас видела, они в лучших отношениях между собой.
Обеденный колокол, сзывавший лицеистов в столовую, положил конец свиданию Пушкиных. Началось торопливое прощанье. Сестра и младший брат украдкою утирали глаза.
– Ничего, господа: вы можете проводить вашу матушку и до экипажа, – милостиво разрешил двум братьям надзиратель Чачков.
– Так смотри же, Александр, пиши ко мне, – говорила Ольга Сергеевна старшему брату, спускаясь с лестницы.
– Да ведь письма, сама ты знаешь, Оля, смерть моя, – отговаривался брат.
– Ну так пришли хоть стихи. Ведь ты теперь пишешь и по-русски. Обещаешь?
– Не знаю, право… В последнее время я совсем бросил писать…
– И слышать не хочу! Я жду от тебя предлинного и премилого послания в стихах. Так и знай!
Терпеливо сидевшая на козлах колымаги в ожидании господ няня Арина Родионовна собиралась теперь слезть опять наземь, чтобы как следует проститься со своим любимцем, Александром. Барыня повелительным жестом остановила ее. Зато, когда швейцар суетливо стал подсаживать «ее превосходительство» в колымагу, старушка подозвала к себе пальцем Александра и, наклонившись с козел, сунула ему небольшой пакетец из толстой синей сахарной бумаги, перевязанный золотым шнурком.
– Спрячь, родной мой… – шепнула она. – Думала: сама благословлю образком Иверской Божьей Матери, да не довелось, вишь…
Еще несколько добрых пожеланий на дорогу, свист бича, окрик ямщика: «Трогай! Эй, вы, любезные!» – и громоздкий дедовский экипаж загромыхал по мостовой.
Пушкин едва мог дождаться конца обеда. Пакет няни за пазухой не давал ему покоя. «Что-то положено у нее там?» После обеда он первым делом побежал наверх, в четвертый этаж, в свою комнату. Когда он сорвал с пакета золотой шнурок и развернул бумагу, сверху, как он и ожидал, оказался миниатюрный образок Иверской Богоматери на голубой шелковинке. Под образком же блестела целая груда новеньких и старинных серебряных монет, петровский рубль с просверленным ушком и один старый голландский червонец. И петровский рубль, и голландский червонец он видел когда-то в копилке своей скопидомки-няни; а теперь вот она все-все отдала ему!
На глазах его навернулись слезы умиления. С безотчетным благоговением приложился он губами к святому лику, расстегнул ворот и надел на себя образок. Деньги же няни он запер в конторку, мысленно обещая себе – ни за что, ни за что не истратить из них ни копейки!
Дня через два няня и сестра получили от него в Петербурге по посланию: первая – благодарственное в прозе, вторая – известное стихотворное «К сестре», начинающееся словами:
Ты хочешь, друг бесценный,Чтоб я, поэт младой,Беседовал с тобой…Увиделся Пушкин снова с няней, матерью и сестрой только мельком, при обратном проезде их через Царское в село Михайловское, где с этого года семья Пушкиных проводила уже каждое лето. Арина Родионовна так и осталась в Михайловском; Ольга же Сергеевна, по возвращении в Петербург, по временам навещала брата-поэта то с отцом, то с матерью и была одним из его внимательнейших и снисходительнейших судей. Пример его даже ее заразил; сама она тайком от всех принялась упражняться в стихотворстве и уже на старости лет только призналась в том своим детям.
Глава II
На Розовом поле
…Вы помните ль то Розовое поле,Друзья мои, где красною весной,Оставя класс, резвились мы на волеИ тешились отважною игрой?Граф Брогльо был отважнее, сильнее,Комовский же проворнее, хитрее;Не скоро мог решиться жаркий бой…Где вы, лета забавы молодой?..«Отрывок»В конце того же мая месяца двух братьев Пушкиных в царскосельском лицее навестил, по пути из Варшавы в Петербург, и отец их, Сергей Львович. Когда он небрежно скинул на руки швейцара свой пыльный дорожный плащ с капюшоном, на нем оказался наряд, по пестроте своей, пожалуй, не совсем уже соответствовавший его немолодым летам: зеленый фрак, клетчатый трехцветный жилет и полосатые панталоны. Когда-то наряд этот был очень модным; Сергей же Львович в молодости слыл в Москве, подобно брату своему, стихотворцу Василию Львовичу Пушкину, известным щеголем и с годами, не переняв новых мод, продолжал держаться излюбленной раз пестроты. Лицейский швейцар, «видавший виды», по пословице «по платью встречают, а по уму провожают», тотчас оценил приезжего по его изысканной, в своем роде, внешности, а также по той покровительственной важности, с которой он потребовал к себе обоих своих сыновей. Впрочем, за старшим из них, гулявшим где-то в парке, швейцару некого было сейчас послать, а сам он для этого не смел так надолго отлучиться из своей швейцарской; за младшим же он не замедлил побежать в лицейский пансион, который был рядом.
Наговорившись с Левушкой, по обычаю того времени, вперемежку – по-русски и по-французски, Сергей Львович вспомнил наконец опять о старшем сыне.
– А где же Александр?
– Он, верно, на Розовом поле, – отвечал Левушка.
– Это что ж такое?
– А большой луг, знаете, между большой руиной и капризом, где при Екатерине Великой, говорят, росли розы. Теперь его отвели лицеистам для их игр.
– Стреножили, значит, жеребчиков, чтобы другой травы не помяли? Ну что ж, пойдем, отыщем его.
Спустившись с сыном в парк, Сергей Львович остановился на минутку и взглядом знатока окинул великолепный фасад императорского дворца.
– Семьдесят лет ведь прошло с тех пор, – промолвил он, – как граф Растрелли обессмертил себя этой колоссальной постройкой. Позолота, правда, сошла уж с крыши, карнизов и статуй; но стиль, смотри-ка, как выдержан: Людовик XIV да и только! Рассказывают, что когда императрица Елизавета Петровна прибыла сюда со всем двором и иностранными послами осмотреть новый дворец, один только французский посол, маркиз де Шетарди, не проронил ни слова.
– Что же, маркиз, вам не нравится мой дворец? – спросила Елизавета.
– Одной, главной вещи недостает, – отвечал он.
– Чего же именно?
– Футляра, чтобы покрыть эту драгоценность.
При дальнейшей прогулке по парку отцу с сыном попался на глаза лицеист в синих очках, который, полулежа на скамье, читал книгу.
– Это барон Дельвиг, друг Александра, – вполголоса пояснил Леон.
– Верно, он так прилежен, что даже не играет с другими?
Левушка рассмеялся.
– Напротив, так ленив, что не хочет играть. А читает теперь непременно какие-нибудь стихи.
– Сейчас узнаем, – сказал Сергей Львович и, подойдя к Дельвигу, очень вежливо снял шляпу:
– Если не ошибаюсь, барон Дельвиг, друг моего старшего сына, Александра Пушкина?
– Точно так, – отвечал, вставая, Дельвиг. – Вы ищете Александра? Он с другими на Розовом поле.
– А вы предпочли читать книгу? Позвольте полюбопытствовать.
Дельвиг не мог не подать ему книги.
– Так и знал: стишки, – снисходительно усмехнулся Сергей Львович. – Вы ведь тоже один из лицейских стихотворцев?
– Полкласса у них стихотворцы! – вмешался с живостью Левушка. – Барон да наш Александр из самых лучших. Один только Илличевский может помериться с ними. Какие, я вам скажу, у них эпиграммы, какие карикатуры! Особенно в карикатурном журнале. Сам гувернер наш и учитель рисованья, Чириков, поправляет эти карикатуры…
– Похвально, – произнес Сергей Львович таким тоном, что оставалось под сомнением: хвалит он иронически или серьезно. – И ко мне, за тридевять земель, дошли уже слухи, что у вас здесь сильно «зажурналилось» и «затуманилось», как выразился Державин, когда у нас на Руси чересчур расплодились журналы.
– В настоящее время у нас в лицее всего один журнал – «Лицейский мудрец», – заметил, как бы извиняясь, Дельвиг.
– Но сам барон – цензор этого журнала, – подхватил Левушка. – Корсаков – редактор, а Данзас – типографщик, то есть переписчик, потому что у него лучший почерк.
– Запретить вам, господа, баловаться стихами никто посторонний, конечно, не вправе, – наставительно заговорил Сергей Львович, и между бровями его появилась легкая складка, – но сыну моему Александру я строго закажу…
– Но вы же сами, папенька, пишете прекраснейшие альбомные стихи, – вступился за отсутствующего брата Леон.
– Альбомные – да. Всякий благовоспитанный человек нашего века обязан уметь: войти в комнату, болтать по-французски обо всем и ни о чем, знать наизусть тысячи изречений и сентенций, участвовать в спектаклях, живых картинах, общественных играх; точно так же он должен быть готов во всякое время, по первому востребованию, настрочить альбомный куплет по-русски, по-французски или на ином европейском диалекте. И в этом отношении, любезный барон, могу сказать без излишнего самохвальства, ваш покорный слуга дошел до некоторой виртуозности:
Вы приказали – повинуюсьИ дань спешу принесть в альбом;Хоть в стихотворцы я не суюсь,Но воля ваша мне закон…Вы, кажется, не одобряете моего куплета? – прервал сам себя декламатор, заметив, что Дельвиг закусил губу. – «Альбом» и «закон» не совсем богатая рифма – согласен. Но альбомный стих – дареный конь; а дареному коню в зубы не смотрят.
– Так видите ли, папенька, как хорошо, что Александр уж смолоду упражняется в стихах! – возразил Левушка. – В последние месяцы он что-то мало писал. Но есть у него одна вещица: «Красавице, которая нюхала табак», – просто пальчики расцеловать!
– Хороша должна быть красавица, которая набивает себе нос табаком! Горгона какая-нибудь?
– О нет! Родная сестра лицеиста нашего, князя Горчакова, княгиня Кантакузен: молоденькая и прехорошенькая. Она как-то приезжала сюда к своему брату. Я вам сейчас скажу все стихотворение: я знаю его от доски до доски…[3]
– Не трудись! – сказал Сергей Львович.
– Нет, вы только послушайте, папенька, какие там есть стихи:
Ах! Если, превращенный в прах,И в табакерке, в заточенье,Я в персты нежные твои попасться мог, —Тогда б я в сладком восхищенье…– И так далее, – перебил Дельвиг, который не мог вынести насмешливой улыбки, показавшейся на губах отца его друга. – Александр будет очень рад вас видеть.
– Надеюсь, – с некоторою уже сухостью произнес Сергей Львович. – Вы, барон, не пойдете с нами?
– Нет, благодарю вас… Я почитаю.
– Так имею честь вам кланяться: больше, вероятно, не увидимся.
И в сопровождении младшего сына Сергей Львович отправился далее. На Розовом поле все прочие лицеисты, действительно, оказались налицо. Играли они в лапту, и игра их была в полном разгаре[4]. Один из горожан, сутуловатый великан, забежавший за противоположную черту поля, перебегал только что обратно в город.
– Живей, Кюхельбекер! Не поддавайся, Виленька! – подбодряли его друзья-горожане.
Согнувшись в три погибели, Кюхельбекер неуклюже вымерял уже своими длинными журавлиными ногами половину вражьего стана, когда попал под неприятельскую бомбу: матка полевщиков, граф Броглио, несмотря на то что был левша, так метко угодил ему в голову мячом, что Кюхельбекер схватился за щеку и сделал козлиный прыжок. Полевщики кругом так и заликовали, потому что этим бой был решен и город перешел в их власть.