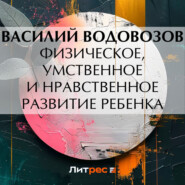По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Древние языки в гимназии
Год написания книги
1861
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Василий Иванович Водовозов
«Мы приступаем к вопросу, который возбуждал и еще возбуждает жаркие споры между двумя партиями, строящими здание педагогики в сред неучебных заведениях: какой фундамент дать этому зданию, на какой почве, древней или новейшей, его поставить? с помощью древних языков и филологии или естествознания и реальных наук дается молодым умам прочное развитие? – вот в чем не согласны гуманисты и реалисты. Рассматривать всю историю этого спора не составляет цели настоящей нашей статьи; мы не думаем также рассматривать вопроса с отвлеченной, философской точки зрения; мы хотим только поговорить о нем, как о вопросе, имеющем отношение к жизни, и в особенности к нашей жизни…»
Василий Водовозов
Древние языки в гимназии
Мы приступаем к вопросу, который возбуждал и еще возбуждает жаркие споры между двумя партиями, строящими здание педагогики в сред неучебных заведениях: какой фундамент дать этому зданию, на какой почве, древней или новейшей, его поставить? с помощью древних языков и филологии или естествознания и реальных наук дается молодым умам прочное развитие? – вот в чем не согласны гуманисты и реалисты. Рассматривать всю историю этого спора не составляет цели настоящей нашей статьи; мы не думаем также рассматривать вопроса с отвлеченной, философской точки зрения; мы хотим только поговорить о нем, как о вопросе, имеющем отношение к жизни, и в особенности к нашей жизни.
Предупреждаем, что мы наперед согласны со всеми доказательствами, какие приведут гуманисты в пользу классических языков и филологии: опровергать их в этом отношении значило бы делать спор бесконечным. «Чего вы хотите? – говорят они. – Реального знания? Так мы вам докажем, что классические языки и литературы реальны не менее ваших естественных наук». Мы готовы и в этом с ними согласиться; мы готовы согласиться с ними во всем на том условии, чтоб они также признали, что знание, называемое гуманным, заключается не в одной классической филологии и что требования жизни имеют хоть какую-нибудь силу. Я начну с этого последнего обстоятельства.
Сами приверженцы классических языков в преподавании (как это заявлено было и на педагогических прениях) сознаются, что древнефилологические знания ныне мало имеют у нас успеха; но причину этого приписывают недостаткам преподавания: устарелые руководства, отсутствие системы, педантский обычай набивать голову сухими терминами и разными тонкостями филологии, бессмысленное заучивание форм-все это с ранних лет внушало отвращение к древним языкам. Мы согласны с тем, что в нынешнее время очень неохотно и тупо занимаются латынью. Но ведь древнеклассические знания у нас считают за собою чуть ли не два века – опыт, кажется, достаточный, чтобы убедиться, насколько они применимы к нашей жизни. По крайней мере, латынь в старину у нас изучали очень усердно. Ломоносов, первый представитель нашей науки, знал отлично древние языки, что можно видеть по многочисленным переводам из Цицерона, Вергилия, Демосфена, помещенным в его риторике. Однако ж главным, любимым занятием Ломоносова были естественные науки, и на всей его личности заметен тот реализм, который так резко обозначил характер Петра Великого. Занятие древними языками у нас послужило только к тому, чтобы утвердить ложноклассическое направление, придать нашему языку совсем ему не свойственный оборот речи. Положим, этому содействовало также риторическое учение, господствовавшее тогда в целой Европе; но и обращение литературы к истине, к природе, которому в Германии так много содействовало изучение греческой литературы, у нас совершилось без помощи классических знаний: Жуковский, первый у нас представитель художественности, не знал древних языков; напротив, Мартынов и Гнедич, отличные знатоки греческого языка, принадлежали отчасти к старой, риторической школе. Очень замечательно, что все писатели, с наибольшим успехом воспроизводившие у нас греческую простоту и пластику, совсем не получили классического образования: Батюшков переводил с французского свои лучшие антологические пиесы; из наших современных поэтов, г. Майков начал свое поприще с изучения юриспруденции. Мы эти факты приводим не для tofo, чтоб доказывать бесполезность у нас классического знания, а в свидетельство того, что мы совсем другим путем достигали тех результатов, какие в Европе вырабатывались постепенным изучением древнего мира, продолжавшимся много веков. Подражая в этом отношении Европе, нам необходимо бы перенять и те учреждения, какие там возникли на классической почве.
Что касается лично меня, я признаю огромную пользу, какую может принести изучение древнего мира; но все-таки веду свою речь против обязательного изучения древних языков в гимназии. Для меня не существует приведенной выше причины, по которой бы я мог не любить этих языков: я начал ими заниматься добровольно в университете и потом очень долгое время занимался с любовию. Как в изучении каждой черты любимого предмета, меня, конечно, пленяло осязательное усвоение красоты в греческих созданиях. Я терпеливо выносил саму скуку, добиваясь огромных результатов от анализа какой-нибудь запутанной фразы, искаженной некогда переписчиками и еще более затемненной комментаторами и, признаюсь, понапрасну убил слишком много времени, потому что в душе никогда не был филологом. Я выбрал слишком длинный путь: при моем тогдашнем пристрастии к классическому миру, мне было бы гораздо более пользы, если бы я побольше занялся относящеюся к нему литературою, а большую часть классиков прочел бы в хороших переводах. Мне было бы очень полезно заняться и другими предметами, которые не отрывали бы меня от окружающей действительности, не замыкали бы в тесный круг идей любопытных настолько, насколько они оставили следы в нашем современном развитии. Но я не шутя хотел быть греком и жить по-гречески, даже гордясь своим равнодушием к окружающему миру. Как ни прекрасна философия Платона, однако с его идеальной республикой не уйдешь далеко. Я привожу здесь свой собственный опыт в той уверенности, что и многие другие испытали то же. Никак нельзя сказать, чтоб наше общество в свое время было более равнодушно к классическим знаниям, чем к каким-нибудь другим, а что оно дошло в некоторой мере до этого равнодушия, так тому причиною не одно плохое преподавание древних языков.
Итак, равнодушие к латыни (до сих пор латынь считается у нас обязательным предметом для поступления в университет) – факт заявленный. Мнение большинства то, что изучение латыни в гимназиях ни к чему не служит. Если бы это было мнение невежд, то мы об нем бы и не упоминали; но так судят люди очень образованные и сами прилежно изучавшие латынь. Нужно ли обратить внимание на такое суждение? Некоторые люди в словах «современный взгляд, современные требования» видят одно пристрастие к моде. Едва скажешь эти слова, они сейчас вам заметят: «Вы хотите подражать иным прочим, говорите с чужого голоса, вы модничаете вашим современным материализмом; вам пользы да пользы, а всякое бескорыстное, серьезное знание вам кажется отсталостью». На все это отвечать очень легко. Во-первых, классическое знание вовсе не ведет к идеализму: греки в жизни своей были более материалисты, чем каждый из новейших приверженцев этого учения; про римлян и говорить нечего. Даже греческая поэзия, при всей игре фантазии, отличается какой-то скульптурной неподвижностью, происходящей от тесного ограничения идеи матернею. Она способна скорее умерять идеальные увлечения, чем возбуждать их, и в этой мере гармония – ее существенное преимущество. Во-вторых, не признавая современных требований, надо быть последовательным: надо отказаться от всей современной науки, признавать розги самою благодетельною мерою, ходить в костюме старых веков и т. п. А то в самом деле странно, когда, подобно Чацкому, явившись во фраке на бал, вы будете ораторствовать против фрака, когда, снимая свой фотографический портрет, ездя по железной дороге, пользуясь телеграфами, вы будете говорить против необходимости естествознания. Если бы вы совсем отказались от мира, то и тут сырость пещеры, в которой вы будете жить, заставит вас подумать о некоторых свойствах природы. В-третьих, бескорыстие зависит не от того или другого знания, а от нравственного развития человека: бывают и классики очень расчетливые, и химики очень великодушные. Из того, что в некоторых людях желание казаться современным происходит от пустого фанфаронства, не следует чтобы вообще современное направление науки вело к фанфаронству.
При современном направлении науки многие знания получили огромное развитие, о котором и не гадано за двести лет тому назад. Естественные науки теперь далеко не то, чем были они в век, когда первый раз Бэкон писал их программу и указывал новый путь исследования; география сделала огромный успех с тех пор, как Колумб открыл Америку; в истории немало накопилось событий и взглядов после знаменитого Роллена. Но свое истинно гуманное значение, свое живое применение к жизни и судьбам человека получили все эти знания только в наш век. Узнавая строгую гармонию природы и во всем явственно действующий закон ее, мы поистине смиряемся духом. Мы не считаем себя безошибочными в наших самолюбивых мечтах и болезненном увлечении чувств; мы уже знаем, что беспутные мечты есть только эгоистическое заявление своей собственной личности и нарушение того естественного порядка в развитии, который указывает природа. Усваивая этот естественный порядок, мы тем самым яснее сознаем нелепость форм, искусственно наложенных на наше развитие вследствие внешних, случайных обстоятельств, форм, которые, сдавливая жизнь в правильном ее течении, производят в обществе уродство, пороки и, наконец, анархию. Мы постепенно научаемся жить и действовать, сохраняя общую жизнь, а не вредя ей. Вместо прежней лени, покоящейся на лоне невежества и суеверия или самодовольного знания предметов, с которыми никогда не сталкиваешься в жизни, явится неудержимая потребность труда и более широкого анализа не потому, что и «курочка трудится», как доказывала одна детская брошюра, а потому, что знание природы имеет на каждом шагу применение к жизни и бесконечный материал ее повсюду возбуждает нашу любознательность, хотя бы мы даже не выходили из своей комнаты и имели для исследования только себя, паука, работающего над своей тканью в углу стены, да один луч солнца, пробивающийся в узкое окно. Зная истинные силы природы, человек уже не будет более жарить ведьм на огне или, если опасаться подобного случая совсем невозможно в наше время, не будет отравлять жизнь свою ежеминутным страхом как перед разными таинственными существами, привидениями, грезами больной головы, так и перед безвредными явлениями физического мира, например считать крик ворона или кукушки зловещим, бояться паука и ящерицы, считая их ядовитыми животными, видеть конец мира в солнечном затмении и в появлении кометы и проч. Усвоив, например, процесс образования крови и ее очищения в легких, мы живее понимаем, какой вред происходит человеку от дурной пищи и дурного воздуха; мы живее чувствуем, как нужно бы помочь своему ближнему в этом случае: уж тут нет места тем успокоительным оговоркам, какие любит придумывать человек в своем эгоизме: «Правда, что бедный человек нуждается… так что ж? Ему немного и необходимо: он привык к своей курной избе (наука не укажет, как тут можно умереть от ядовитого газу) и грубая пища ему нипочем… напротив, он от этого становится еще здоровее». Так, в своем идиллическом невежестве, мы всех считаем счастливыми: в селах у нас пастушки поют на звонкой свирели о любви, в ремесленном быту довольный работник после здорового труда весело отдыхает в кругу своего семейства. Как ни утешителен этот розовый взгляд, он часто очень негуманен. Напротив, при ближайшем знакомстве со всеми действиями природы, какие имеют влияние на человека, мы сильнее сознаем необходимость и находим более средства помогать ему, а следовательно, становимся добрее. Вот гуманная сторона естественных наук: этого не объяснят нам ни рассказы о похождениях Зевеса и Бахуса, ни драка Одиссея с женихами, ни прочие драки под Троею. Правда, греческие типы прекрасны по той простоте чувства и жизни, какая в них является вследствие патриархального, непосредственного отношения к природе. Очень полезно с ними знакомиться для развития в себе этого простого чувства; но так как непосредственные отношения к природе уже невозможны в образованном обществе, то всего естественнее сближаться с природою путем ее изучения. Мы не говорим здесь о важности, какую имеет естествознание само по себе, без всякого применения к педагогике. Если мы считаем полезным знать об ассириянах и вавилонянах, о том, как Нума Помпилий разговаривал с нимфой Эгерией, об употреблении супинум и аориста, то как же оставаться равнодушным перед теми видимыми ежедневно явлениями, которые говорят вам тысячами языков, более разнообразных и логичных, чем все супины и аористы, – перед тою громадною историею, которая творится не в одном каком-нибудь уголку, а в целом мире и во всякое время. Что касается педагогики, то развивающее действие естественных знаний, особенно для маленького возраста детей, признано почти всеми: этому содействует совершенная наглядность опыта, столь важная в преподавании.
Итак, нет сомнения, что естествознание как предмет общего преподавания должно войти в значительной мере в курс гимназический. Изучение географии и истории в соединении с некоторыми данными политической экономии и статистики также настоятельно требует большего объема. Уже прошло то время, когда довольствовались перечислением рек, городов, фабрик и проч.; когда рассказ о войнах с подробным знанием хронологических таблиц вполне удовлетворял невзыскательных судий. Теперь главное составляет характер народа в зависимости от местных влияний, знание промыслов и других производств, – все общественное устройство, вышедшее из физических и нравственных особенностей того или другого племени. Сколько пробелов наполнилось в географии! Африка, о которой прежде можно было сказать кое-что на двух, трех страничках, теперь становится одною из самых любопытных стран в этнографическом отношении; в Ледовитый океан – и туда проникли. Как обойти без внимания в высшей степени занимательные и наставительные подвиги новейших путешественников и результаты, ими добытые! Перед их делами, несмотря на помощь, оказанную им наукою, бледнеет и самоотвержение Колумба. География становится здесь также очень гуманным знанием. Не рассказ о политических событиях, которые служат только следствием внутреннего состояния народа, как припадки болезни или выздоровление происходят в отдельном человеке от действия всего организма, – а общественный порядок, обычаи, умственное и нравственное развитие эпохи занимают первое место в истории. Победу над персами при Саламине приписывают ловкости и хитрости Фемистокла; но, конечно, Фемистокл был не чудодей вроде богатыря Ильи Муромца: в нем только выразилось превосходство греческого образования и афинского искусства. Чтобы понять настоящим образом этот факт, надо взять рассказы об афинянах Геродота и Фукидида да патриотические драмы Эсхила и Софокла. Представив живую картину греческой жизни по речам Перикла, по драме «Персы» и другим подобным источникам, вы разом объясните много фактов, которые явятся в истинной, внутренней связи между собою. Точно так же реформация произошла не вследствие продажи индульгенций. К чему нам знать все утомительные подробности борьбы между протестантами и католиками? Объясните самое движение идей, произведших протестантизм, самый источник оппозиции против папства, которая началась еще со времен провансальской поэзии и продолжалась в лице Данте и Боккаччо, объясните потребности новой жизни в VI веке, и вы расскажете историю, а не скучную летопись сражений, убийств и взаимных обманов. От того-то даже простая народная сказка о небывалом герое, выставляя дух эпохи, лучше объясняет вам событие, чем сухая летописная повесть о действительных происшествиях и лицах. Прочтите наши предания о Калине-царе, об Идолищах, и вы живо поймете, что такое была грубая татарская сила. Летопись Нестора тем и хороша, что знакомит вас с историею нравов. Отчего один его рассказ об ослеплении Василько более рисует вам характер удельного периода, чем вся эта бесконечная перечень ссор и дрязг по родословным таблицам? Именно потому, что в его рассказе ярче выступают черты самой жизни. Об этом много у нас толковали в последнее время, но, кажется, еще очень мало сделано, чтобы оживить преподавание истории в среднеучебных заведениях: программы остаются с прежними требованиями наибольшего количества имен и чисел. Становясь по преимуществу изложением обычаев, нравов, цивилизации данной эпохи, история, конечно, очень расширяется в своем объеме; но так или иначе необходимо будет помирить эти требования с пределами гимназического курса. Если считать особенно полезным знакомство с классическим миром, то отчасти к ней, отчасти к истории общей литературы естественнее всего могло бы примкнуть подобное знание. Жизнь древних узнаем мы не из двух, трех страничек Цицерона, приведенных в классе латинского языка, а из связного рассказа обо всем их развитии. Но нельзя также не обратить внимания на успехи исторического знания в новейшее время и на те эпохи, которым оно было посвящено в особенности. Кажется, не будет преувеличением назвать необразованным того человека, которому неизвестны имена Гизо, Тьера, Маколея, Прескота, Шлоссера? Но при тех образцах исторических трудов, какие представляют эти писатели, трудно удовольствоваться одним знанием имен. Вот, познакомясь хоть сколько-нибудь с этими образцами, мы и убедимся, что история-очень гуманное знание, даже гуманнее творений Вергилия и Цицерона. Мы еще ничего не упоминали о русской истории. С изданием памятников, с новыми исследованиями ее требования все более увеличиваются, переходя за границы краткого курса Устрялова. «Знай себя» говорили еще греческие философы. Знать себя нам нужно поподробнее и основательнее уже по настоятельному требованию нашей современной истории. В этом отношении, например, прилежные немцы много счастливее нас, ленивых: они уж никак не будут с такою подробностью изучать русскую историю, с какою мы обязаны изучать историю Германии и других народов, а что касается изучения своей истории, то тут обязательства у всякого народа одни и те же.
Мы уже видели, сколько в настоящее время набралось гуманных знаний, хотя мы еще не касались вовсе философии и поэзии. Откуда ж взялось название «гуманный», по преимуществу приписываемое классическому миру? Мы, кажется, держимся здесь только старого предания. Классические знания были действительно studia humaniora в век, зараженный предрассудками, когда все науки еще лежали в зародыше, опутанные, как толстым коконом, схоластикою и мистицизмом. В сравнении с туманными тонкостями Аверроэса, Скота и других учителей Платон мог действительно казаться божественным по ясности своей диалектики и возвышенности смелых идей. Перед искаженным романтизмом XIII и XIV веков Цицерон и Вергилий были на самом деле высокими представителями человечного. Самое суеверие древнего мира облекалось в привлекательную, художественную форму, не имевшую ничего общего с грозными созданиями северной мифологии. Грамматика латинского и греческого языков, единственный предмет, разработанный с полным тщанием, действительно представляла самое положительное знание, наиболее содействовавшее к развитию анализа и других логических способностей. Прибавим к этому, что классическая наука имела на Западе самую близкую связь с жизнью, находя себе применение в народных преданиях, в памятниках искусства, в законах, в религии. В XVIII веке первый раз возникают на новых началах история и естествознание; но чисто отрицательное направление, с одной стороны, а с другой – фантастические затеи лиц вроде Сведенборга не могли утвердить за этими знаниями должного авторитета. Оппозиция против ложноклассического французского направления также содействовала к тому, чтобы утвердить изучение древних языков и литературы как основу в преподавании. Между тем уже неудачное применение классических преданий во время французской революции ясно показывало, как древний мир чужд новому. У созерцательных немцев исключительное изучение классиков, наоборот, произвело ученый педантизм и совершенное отчуждение от жизни; у англичан оно сохранялось по любви к преданию, не становясь, однако, помехою другим знаниям. Наконец, в наш век, при таком широком развитии всех наук, естественно, поднялся вопрос: «Что ж? долго ли нам ходить на помочах у греков и римлян? Неужели в восемнадцать веков человечество настолько не развилось, чтоб мыслить самостоятельно? Неужели оно не успело выработать для себя ближайших образцов, и Леонид при Фермопилах все должен быть образцом героя? Неужели только с помощию пяти латинских склонений и четырех спряжений с их исключениями мы сделаемся похожими на людей?» Да, Европа должна была пройти через узкие ворота классической филологии, чтоб выйти на другой, более широкий путь науки; но, раз очутившись на этом пути, нужно ли было возвращаться назад? Нужно ли заставлять молодое поколение испытывать все труды предков, когда и без того его труд так многосложен и безграничен?
Ни классические предания, ни сродство языка не связывали нас, русских, с Грецией и Римом; мы только подражали всему, что делалось на Западе, и классические знания были у нас до сих пор перенесенный цветок, служивший более к украшению теплиц, т. е. учебных заведений. Если при том глубоком корне, который пустили они на Западе, западная наука уже не считает их неизбежным, существенно необходимым предметом для развития юношества, то нам было бы совсем неестественно слишком жарко их отстаивать. В нашем обществе мы видим к латинскому и греческому языкам не предубеждение, а совершенное равнодушие. «Дайте нам что-нибудь прочесть из жизни Греции и Рима в удобочитаемом переводе или в дельной ученой статье, мы прочтем с удовольствием (как это доказал некоторый успех „Пропилеи“ и посредственного перевода Тацита); а учиться для этого древним языкам, извините, у нас нет времени. Что касается наших детей, то научите их немножко правильнее писать по-русски, да немножко понимать по-французски и по-немецки; латынь же служит только к тому, что они по крайней мере два раза в неделю остаются без обеда, а это очень вредит их здоровью. Если ж хотите поболее развить их, то познакомьте их с теми знаниями, которых наиболее требует современная жизнь и наука: мы хотим видеть их не греками и не римлянами, а образованными европейцами и русскими; мы не думаем делать из них каких-нибудь ремесленников, но и не желаем, чтоб они уже с детства приготовлялись быть специальными учеными и притом по науке, которая ни нам, ни им не по сердцу». Таково мнение большинства в нашем обществе, и оно не лишено основания. Мы здесь переходим к рассуждению о том, как в применении к нашей жизни становится мудреным обязательное изучение древних языков.
Мы не должны забывать одного: при всей бедности нашей эрудиции и недостатках педагогического развития нам приходится изучать почти вдвое более предметов, чем сколько проходят их в самой ученой немецкой гимназии. Мы уже имели случай об этом заметить в отношении к русской истории; то же самое должно сказать об языках. Ни в одной из гимназий на Западе не преподается русский язык, а нам нужно учиться и немецкому и французскому: там, где в программе какой-нибудь немецкой гимназии назначен будет всего один иностранный язык, у нас их по меньшей мере окажется два, и между ними язык германский, который ничуть не легче латинского. Но, имея в виду гуманное образование, очень полезно бы учиться и английскому языку. Английская литература действительно представляет богатейший материал для всестороннего образования юношества. Если невозможно в гимназии достигнуть того, чтобы разбирать в подлиннике лучшие образцы ее, как, например, Шекспира (нам кажется, что при хорошем преподавании это очень возможно), то необходимо назначить особые лекции для некоторого знакомства с нею, ровно как и с другими литературами. Ведь изучая древние языки, имеют в виду не один язык, а также изучение поэтических образов в Гомере и Софокле, красноречия и стройности мыслей у Цицерона и Вергилия. Но тем путем, который у нас принят, до этого знания доходят очень мало или, лучше сказать, совсем не доходят. Латинская грамматика именно более всего и мешает нам познакомиться с древним миром. Если бы мы даже добились того, чтоб читать в подлиннике Вергилия, Горация и Цицерона, то это одностороннее знакомство с классиками может более повредить, чем принести пользу. Гомер, Софокл, Платон еще могут представить вам в пластической красоте и в обнаженной истине человеческую природу, но что значит для нас Цицерон, Гораций, Вергилий? Один, правда, хороший оратор, но его красноречие уж никак не может служить образцом в настоящее время по причине однообразной симметрии слога и искусственности выражений. («Долго ли, Каталина??! Что?.. Как?..» и проч.); другой хороший поэт с очень узеньким миросозерцанием: «Живи себе и умеренно наслаждайся, а о прочем не заботься»; третий щеголеватым слогом пересказывает сказки, даже не имеющие интереса народности, и важен более по отношению к позднейшей ложноклассической литературе. Но даже Гомер, Софокл, Платон могут быть как следует поняты только в связи с другими явлениями всеобщей литературы. В них все-таки не столько гуманного, чтобы исключительно на них останавливаться, когда есть создания более близкие и более применимые к характеру нашей жизни. Странно было бы по преимуществу толковать «Эдипа», когда «Король Лир» и другие драмы Шекспира представляют такое богатое содержание для знакомства с человеческою природой. Вальтер Скотт, Байрон, Гёте, конечно, более соответствуют кругу идей, в котором мы живем, чем Анакреон, Еврипид, Овидий. Даже темные скандинавские сказания в некоторых отношениях для нас понятнее, чем греческие мифы, без знания которых нельзя понимать и греческой поэзии, а чтоб узнать эти мифы, надо обратиться к исследованию Востокова. Римская сатира любопытна для характеристики народности римской; но неужели нам нужно обращаться к ней для каких-нибудь поучительных, педагогических целей? Я думаю, что Грибоедов и Гоголь в этом отношении и гуманнее и понятнее для русского человека. О важности для нас изучения всеобщей литературы я уже имел случай говорить в статье «Тезисы по русскому языку» и здесь не буду повторять прежнего. Некоторые думают, что занятие древнею литературою более приучает к труду и служит оселком терпения. Это справедливо в отношении тех, которым к труду уж нечего приучаться; но воспитанников гимназии скорее привлечет предмет, который имеет более близкое отношение к окружающей их действительности. Кроме исторического занятия общей литературою русский язык и русская литература составляют также один из первых предметов преподавания. При обширных исследованиях, которые в последнее время предприняты, особенно по нашей народной литературе, курс его должен также во многом расшириться. Нам следует более чем кому-либо знакомиться со своим народом, потому что мы менее его знаем. Может, это только временная потребность; при сближении образованного класса с народом самая жизнь в своем новом развитии будет служить нам руководством; но теперь, когда мы все волею-неволею становимся педагогами, наука должна указать средства быть действительно полезными в деле общей пользы.
В нашем образовании в свое время довольно было обращено внимания на то, чтобы приготовить людей, по преимуществу избиравших административное поприще; теперь, когда излишнее размножение чиновников становится немалым обременением казны, можно бы точно так же позаботиться о приготовлении людей, настолько развитых, что могли бы при случае найти себе и другое поприще. Да и в самом административном деле знание народа становится крайней потребностью.
Итак, с одной стороны, естествознание, всеобщая и русская история, география; с другой – языки немецкий и французский, а по возможности и английский, рядом с курсом общей литературы и с изучением родного языка и родной словесности все более становятся предметами, настоятельно требующими, именно вследствие своего гуманного значения, возможно большего расширения в гимназическом курсе. Много ли времени остается для знакомства с древними языками? Обыкновенно утверждают, что эти языки по полноте своих форм, по строгой логической конструкции, по самому несходству с новейшими языками чрезвычайно полезны для упражнения умственных способностей в учащихся. Мы этого и не отвергаем. Следовательно, главною целью гимназического обучения будет развитие филологических способностей, потому что приучить вообще к анализу, к внимательному вниканию в предмет несравненно легче с помощью чисто реальных знаний. Но всякий ли имеет филологические наклонности и можно ли упражнять их через занятие мертвыми языками почти с детского возраста? Можно ли смотреть на науку как на что-то отдельное от жизни, когда вся современная наука и обязана своими успехами сближению с природою? Притом и для развития филологических способностей в той мере, в какой оно может быть допущено в среднеучебном заведении, разве недостаточно двух языков иностранных, из которых немецкий не уступит по искусственности конструкций латинскому? Уж естественнее было бы допустить сравнительное изучение русского языка с древнерусским, старинным церковным и славянским наречиями; наконец, просто ввести курс сравнительного языкознания, куда войдет в некоторых формах и санскритский, и древнеготский, и прочие языки. Латинским языком и в той мере, в какой он преподается в гимназии, занимаются неохотно. Виною этому, говорят, были дурные руководства, дурное преподавание. Мы уже видели, сколько времени существуют у нас классические знания. Что ж? Долго ли еще нужно продолжать этот опыт? При самом отличном преподавании все-таки придется упражнять воспитанников формами и формами, распространять изучение грамматики свыше всякой меры, потому что целью будет все-таки филология. Так, в греческом одно изучение наречий дорического, ионического, эолического займет огромное время. Что касается руководств, то они немного помогут без содействия искусного преподавателя и любви к предмету[1 - Г-н Филонов, доказывая необходимость учебников (Журнал Министерства народного просвещения, 1860, май), делает замечание на мою мысль о бесполезности для гимназий руководства по русскому языку и словесности, которое не предлагает обильного фактического материала для составления лекций. Он находит тут противоречие с тем, что я говорил о моих неудачных попытках на поприще педагогики (см. ст.: «Тезисы по русскому языку»). Имея в руках хороший учебник, я, по словам г-на Филонова, «не попадал бы впросак, не глушил бы всех учеников схоластикою и проч.». Вообще во всей статье г-на Филонова видно какое-то отчаяние по случаю тех печальных фактов, которые приходилось наблюдать ему; он даже защищает учебники, как надлежащую мерку, по которой начальство заведения может наблюдать, что и в каком виде проходится (с. 88). Но – увы! – в преподавателях, которые руководствуются только утвержденною от начальства книгою и которыми сама эта книга руководствует, даже в полицейском отношении, очень мало найдем утешительного. Тогда уж лучше надеть на книгу вицмундир и поставить ее на кафедру. Коснусь себя в моих педагогических начинаниях. Отчего автор думает, чтобы руководство, назначенное для воспитанников, могло вдруг просветить меня? Я прочел не одну книгу и все-таки блуждал, как в потемках; я с трудом вырабатывал себе кое-какие понятия о том, чем наполнить курс словесности, а тут сразу, по одному предписанию, все решено и покончено. Чудная была бы эта книга, заменяющая и для учителей весь педагогический опыт и для воспитанников хорошего преподавателя! Да и откуда взялась бы хоть по теории словесности подобная книга? Кто над ней будет судьею? На каких основаниях ее примут? Через общее согласие наших педагогов? Вряд ли хоть двое найдутся согласных в этом отношении. Взгляните на заграничные учебники по словесности: чем только они не наполнены! Я понимаю, что для дурных педагогов необходимы знания, практика: с одной стороны, знание науки, которая преподается; с другой – знакомство с педагогическими приемами. Дайте и хорошее руководство не знающему ни того, ни другого, он в своих объяснениях все перепутает. Надо предполагать огромную способность в воспитанниках, чтобы они с помощью одного учебника могли развиваться; для большей же части учебник послужит отличным руководством к тому, чтоб ничего не делать: заучил наизусть к экзамену, и баста. Против этого вечного болезненного долбления необходимо вооружиться. Поэтому я не отвергаю руководства для гимназий, но такого, которое давало бы обильный материал для составления лекций, то есть служило средством для самостоятельного развития, чего хотел и автор. Тут нужны не правила, а образцы со сравнительным разбором, который постепенно вел бы к усвоению разных свойств сочинений. В истории литературы главным предметом также будет изложение содержания разных замечательных произведений. Но мечтать о том, чтоб подобная книга, как бы хорошо она ни была составлена, заменила живое изложение преподавателя, было бы слишком много.]. Хорошо, скажут нам, как же без знания латинского языка поступить в университет: ведь оно предписано? Мы желали бы знать, для чего, собственно, необходимо это знание? По факультетам математическому, естественному и юридическому оно ограничивается употреблением некоторых терминов позднейшей, искаженной латыни: для этого, пожалуй, можно оставить и в гимназиях по одной лекции в неделю в двух последних курсах. Кто бы вздумал изучать специально римское право, тому всегда есть возможность научиться этому специальному латинскому языку и в университете, для чего, конечно, мало послужит чтение Цицерона и других классиков. Остается один филологический факультет, для которого, собственно, и необходима филологическая гимназия. Мы думаем, что всякое специальное направление следует предоставить свободному выбору. Особенная гимназия с характером чисто филологическим удовлетворяет потребности тех, которые чувствуют призвание к этому занятию. Если потребность эта явится сильнее, могут быть открыты и две гимназии и т. д. Но преподавание греческого и латинского языков должно быть назначено преимущественно для высших классов. Наше разделение университета по факультетам также отзывается стариною: история общая и русская, общая и русская словесность отнесены к филологическому факультету, тогда как это предметы чисто общего образования. Для того, кто бы посвятил себя им специально, конечно, необходимо знание и древних языков; но помимо этой специальности университетский курс представляет очень много имеющего общий интерес. Доказательством этого служит, что лекции упомянутых предметов посещаются большею частью лицами, никогда не изучавшими латыни или знающими ее очень мало, лицами не филологического факультета и которые никогда не думают посвящать себя филологии. Для тех же, которые исключительно посвящают себя ученому поприщу, можно бы назначить в двух первых курсах особенные лекции латинского языка. Не то же ли самое происходит теперь с языком греческим? Его не требуется для экзамена при поступлении в университет, а между тем он столь же необходим (если еще не более) для специального занятия русскою филологиею, историей и литературой. Отчего же такое предпочтение языку латинскому? Не будем заблуждаться. Занятие древними языками слишком серьезно и его с пользою можно начинать только в более зрелом возрасте. Тогда и юноша разовьется настолько, чтобы понимать все превосходство древней филологии и идей, выраженных древним миром. А то, начиная курс латыни почти с малолетства, мы отбиваем всякую охоту к дальнейшему усовершенствованию в этих знаниях. Даже в V классе гимназии воспитанники еще не довольно созрели, чтоб усваивать тонкости филологии. Если же знание древних языков имеет целью только чтение классических писателей, то к чему такой длинный путь? Не лучше ли прочесть их в хороших переводах? С другой стороны, надо помнить и то, что поверхностное знакомство с классическим миром не принесет никакой пользы. Какое, например, воспитательное значение могут иметь греческие мифы, рассказанные по-детски? Тут или, становясь на точку зрения нашей старины, объявляют Зевеса чуть не бесом, или стараются приукрасить голую истину каким-нибудь сентиментально пошлым поучением. Англичане делают последовательнее, представляя греческих богов и богинь в карикатуре, для одной простой забавы. Я бы желал знать, какое понятие о римской литературе можно получить по бесцветным отрывкам и сентенциям, которые помещаются в хрестоматиях? Ведь ни Ювенал, ни Тацит, ни даже лучшие сатиры Горация не войдут в них. Бог с ним, с таким знанием.
notes
Сноски
1
Г-н Филонов, доказывая необходимость учебников (Журнал Министерства народного просвещения, 1860, май), делает замечание на мою мысль о бесполезности для гимназий руководства по русскому языку и словесности, которое не предлагает обильного фактического материала для составления лекций. Он находит тут противоречие с тем, что я говорил о моих неудачных попытках на поприще педагогики (см. ст.: «Тезисы по русскому языку»). Имея в руках хороший учебник, я, по словам г-на Филонова, «не попадал бы впросак, не глушил бы всех учеников схоластикою и проч.». Вообще во всей статье г-на Филонова видно какое-то отчаяние по случаю тех печальных фактов, которые приходилось наблюдать ему; он даже защищает учебники, как надлежащую мерку, по которой начальство заведения может наблюдать, что и в каком виде проходится (с. 88). Но – увы! – в преподавателях, которые руководствуются только утвержденною от начальства книгою и которыми сама эта книга руководствует, даже в полицейском отношении, очень мало найдем утешительного. Тогда уж лучше надеть на книгу вицмундир и поставить ее на кафедру. Коснусь себя в моих педагогических начинаниях. Отчего автор думает, чтобы руководство, назначенное для воспитанников, могло вдруг просветить меня? Я прочел не одну книгу и все-таки блуждал, как в потемках; я с трудом вырабатывал себе кое-какие понятия о том, чем наполнить курс словесности, а тут сразу, по одному предписанию, все решено и покончено. Чудная была бы эта книга, заменяющая и для учителей весь педагогический опыт и для воспитанников хорошего преподавателя! Да и откуда взялась бы хоть по теории словесности подобная книга? Кто над ней будет судьею? На каких основаниях ее примут? Через общее согласие наших педагогов? Вряд ли хоть двое найдутся согласных в этом отношении. Взгляните на заграничные учебники по словесности: чем только они не наполнены! Я понимаю, что для дурных педагогов необходимы знания, практика: с одной стороны, знание науки, которая преподается; с другой – знакомство с педагогическими приемами. Дайте и хорошее руководство не знающему ни того, ни другого, он в своих объяснениях все перепутает. Надо предполагать огромную способность в воспитанниках, чтобы они с помощью одного учебника могли развиваться; для большей же части учебник послужит отличным руководством к тому, чтоб ничего не делать: заучил наизусть к экзамену, и баста. Против этого вечного болезненного долбления необходимо вооружиться. Поэтому я не отвергаю руководства для гимназий, но такого, которое давало бы обильный материал для составления лекций, то есть служило средством для самостоятельного развития, чего хотел и автор. Тут нужны не правила, а образцы со сравнительным разбором, который постепенно вел бы к усвоению разных свойств сочинений. В истории литературы главным предметом также будет изложение содержания разных замечательных произведений. Но мечтать о том, чтоб подобная книга, как бы хорошо она ни была составлена, заменила живое изложение преподавателя, было бы слишком много.