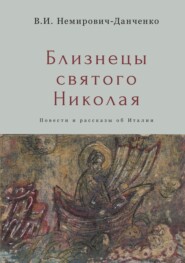По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все это живет, верит, надеется!
Только у меня точно льдом обложило сердце…
Душно, жить нечем: ничего не осталось, что бы заставляло хотеть жить… Да, отчего я не такая, как все? Я и тогда, когда бегала по Тифлисским улицам, была не такая, как мои подруги. Слишком часто задумывалась, слишком много работал мой маленький умишко, слишком и тогда я уже болела душой… за… впрочем, что же, никто не увидит этих строк, а кто увидит, не поймет здесь, – за своего отца и мать!
Мои воспоминания подошли к этому тяжелому периоду!
Нет, он тоже не был виноват Он не мог быть виноват сознательно, умышленно. К нему эта пагубная страсть подошла нежданно, негаданно. Я знаю, что мой отец не мог быть дурным человеком. Смолоду, попав из Петербурга на Кавказ за историю, которая могла заставить его только еще смелее поднять свою гордую и красивую голову, он был выше той среды, где ему приходилось жить. Женился он головокружительном порыве, сослепу, не зная, что в замен целого существования моей матери, всех ее грез, мыслей и чувств (потому что иначе она любить не умела) он дает только редкие бешенные мгновения страсти и потом уходит еще далее от бедной женщины, делается для нее все загадочнее, недоступнее. Часто, когда он спал, она приходила, чуть дыша и босиком, чтобы не разбудить его, и по целым часам сидела над его головой, не отводя взгляда от дорогого и милого ей лица. Бог знает на какое мученичество пошла бы оклеветанная писателями и поэтами восточная женщина, чтобы только уловить на этом лице к ней обращенную мягкую и добрую улыбку, полную ласковой простоты. Как бы она была бесконечно счастлива, если бы он хоть на мгновенье поднял ее до себя, дал бы ей почувствовать их обоюдное равенство. Но ничего подобного не бывало. Случалось, проснувшись, он подымал на нее недоумевающий и холодный взгляд и спокойно спрашивал: «Что тебе, Нина?» – «Ничего, я пришла найти здесь свою работу… Я сейчас уйду!» – тихо и робко роняла она и, опустив голову, как виноватая, уходила прочь, мучаясь самым безумным желанием оглянуться, посмотреть, каким взглядом он ее провожает, и не смея выполнить этого желания…
Нет, он не был виноват!
Ему, этому гордому человеку, казалось, что его может понять только женщина, равная ему по образованию, по положению. Он не знал, что у женщины есть один словарь, в котором она может найти объяснение и оправдание всему, решительно всему – это ее больное, часто израненное, но всегда бьющееся глубокой любовью сердце. Раз он, проходя мимо, задумавшись, ни с того ни с сего наклонился и машинально поцеловал ее в голову. У мамы слезы брызнули из глаз, она подняла взгляд свой на него; улыбнись он, она замерла бы в его объятиях, счастливая и радостная, ожившая для новой жизни, но он этого не сделал. Он терпеть не мог слез. Увидев их, он только поморщился брезгливо и процедил сквозь зубы: «Пожалуйста, вытри глаза!»
Нет, он не виноват!
Я иногда думала, что я хочу его оправдать в моих глазах потому именно, что сама любила его когда-то и теперь люблю его память. Но нет – отодвигаясь от него, глядя со стороны – я повторяю: он не виноват. Ведь та, приехавшая из Петербурга в Тифлис, его кузина, была так ослепительно хороша. Эти волны светлых, какие бывают только у детей, волос, эти темно-синие глубокие глаз постоянно менявшие свое выражение, много говорившие и как говорившие! Эти губы с их смелою улыбкой, этот овал лица матового-бледного, но часто вспыхивавшего ярким румянцем эти царственные плечи, стан… Я была ребенком, но не могла отойти от тети, хотя она не обращала на меня ни малейшего внимания. И мама, бедная мама, сначала тоже сильно привязалась к ней, но потом стала задумываться, видя и слыша, что при ней муж и кузина целый вечер говорят на непонятном ей французском языке. И когда она решалась предложить какой-нибудь вопрос, оба они точно просыпались, сначала с недоумением взглядывали на нее, потом торопливо отвечали оба вместе и тотчас же, забыв и о ней, и о ее вопросе, продолжали прерванную беседу…
Да, мама стала сначала задумываться, побледнела, осунулась и потому казалась еще потеряннее, еще скучнее для тех обоих. Но как она должна была страдать, чувствуя себя постороннею на их вечерах, на их беседах. Она уходила ко мне, схватывала меня на руки, целовала и плакала. И я своим детским сердцем понимала, отчего она плачет. Я маленькими ручонками своими ласкала ее голову и шептала на ухо:
– Не плачь, мама, не плачь, милая… Она ведь скоро уедет.
– Да… Анюта… Она уедет, но увезет от нас с тобой то, что уж не вернется к нам никогда.
Восточная женщина умеет долго и много терпеть.
Мама до конца терпела. Раз только она, проходя по галерее, огибавшей наш дом и висевшей над Курой, случайно заглянула в окно кабинета моего отца, отшатнулась вся бледная, схватилась за перила и долго оставалась так, закрыв глаза и сжав, до боли сжав, свои зубы… Потом она совладала с собой и пошла дальше. Но с этой минуты она уже не поднимала головы… Раз, я помню этот вечер!.. Он врезался в мое сердце, и из него ничто – ни годы, ни даль, ни мое собственное горе – не могло оторвать этого воспоминания…
Дом наш стоял над крутым берегом Куры. Весь он был обвит, точно сетью громадного чудовищного паука, верандами, галереями и балконами. Под нашим балконом, кипя и пенясь, бежала шумная река, и часто лодки, которые я видела издали, подходя к балкону, скрывались под ним и потом уже опять показывались с другой стороны… В этот вечер ее не было, она куда-то уехала. Я была у окна. – Мама и отец встретились на этом балконе.
– Ты больна? – спросил он ее, но таким тоном, который вовсе не обнаруживал, чтобы он уж очень волновался ее состоянием.
– Нет. – И она все не подымала глаз на него.
– Что же ты ходишь как в воду опущенная?..
– Послушай! – что-то незнакомое почудилось мне в голосе мамы. – Я была твоей служанкою, рабою, собакою твоей. За все, за все это, за то, что я вытерпела… (и она подняла на него глаза; в эти минуты они сияли ярко, неестественно ярко), послушай, за все исполни сейчас один мой каприз, только один, и клянусь, я не буду ни стеснять тебя своим присутствием, ни надоедать тебе своим печальным видом… Ты не заметишь его больше.
– Что же я должен сделать? – улыбнулся отец.
– Обними и поцелуй меня…
– Только?
Он ее обнял. Она вдруг задрожала вся, как-то приникла к нему. Схватила его голову, отвела ее от себя, не отнимая рук, взглянула ему в лицо, поцеловала его, и на одну секунду наступило молчание. Потом она, откинувшись, проговорила: «Береги Анну!» И разом оттолкнув, схватилась за перила балкона.
Я только увидела, как через них перекинулось ее голубое платье. Послышался нечеловеческий крик.
А когда я очнулась, через три недели после этого, у моего изголовья сидел отец.
Той уже не было… Та уехала. Ее жизнь была погублена совсем… У нее оказалось сердце. Она так мучалась и каялась, что на севере, на своей родине, ушла в монастырь, и больше я о ней ничего не слышала. Придя в себя, я посмотрела на отца – он был весь седой… Первый раз во всю свою жизнь этот гордый человек опустил свои глаза, и то перед взглядом ребенка.
Через два месяца он отправился в поход.
Больше я его не видела. Меня скоро отвезли в институт в Петербург. Он мне писал, потом письма прекратились. Я не знала, что это значит, пока меня не позвала к себе начальница. Всегда такая важная, «торжественная», как ее называли у нас, она держала в руках какой-то лист почтовой бумаги и, увидев меня, посадила к себе на колени и приласкала…
– Ты знаешь, что твой папа очень, очень болен! – И она гладила меня по голове. – Но это все равно – ты будешь моей дочкой… Слышишь?
Я поцеловала ее большую, красивую, мягкую руку с выхоленными миндалинами ногтей и ответила:
– Нет, у меня есть свой папа… Я не хочу быть ничьей дочкой.
– Бедная моя…
И она объяснила мне, что в отряде генерала Евдокимова, оттеснявшем племена Адыгов на восточный берег Черного моря, мой отец убит наповал, что даже его тела не могли найти после боя, что, – как сентиментально выразилась она, – его похоронил Сам Бог… Грозовая жизнь кончилась необыкновенно! В какой лощине, окутанной роскошною южною порослью, лежат его кости?.. Вспоминал ли он обо мне в последние дни своего тревожного сосуществования! Мне было бы легче, если бы у меня хранился какой-нибудь жалкий листок с его «прощай»… Я его любила страстно, болезненно. Любила даже за его страдания, за всю ту муку, которую он причинил моей матери!.. Я знала, что я не судья ему, а она простила его всем своим, изошедшим кровью, сердцем. Встретились ли они там?
Так кончилось мое детство. О, где вы меланхолические фонтаны и тенистые чинары моего родного Гори? Где вы, лунные ночи, с восточной замирающей песней, с розами, прильнувшими к окну, с задумчивым Светом, будто курившимся над темными кустами? Где ты, моя милая, дорогая, далекая мама? Отчего ты хоть во сне не приходишь ко мне? Раз бы еще почувствовать себя ребенком, ощутить теплоту твоих ласковых рук, нежное прикосновение губ. О, ты должна прийти ко мне! Ведь тогда ты даже забыла проститься со мною…
Сколько лет прошло, а глупые слезы мешают писать мне.
О, Боже, почему это все люди добры, а поступки их полны зла?.. Почему самые любящие сердца так много делают несчастий и бед?..
Довольно на сегодня. Свеча сгорела. Надо быть экономною. Вторая обошлась бы в полфранка, а моя касса вся уже почти истощена… Довольно. А спать ложится страшно. Знаю, что меня ждет бессонная, мучительная ночь, что снова станет сжиматься сердце, и буду я задыхаться, точно воздуху нет в комнате и дышать нечем!
II
Я была способною и талантливою девочкой. Наша «татап» в институте обыкновенно ставила мне в упрек, что я не по летам серьезна. Она приняла во мне большое участие, возила меня с собой в театр, наняла мне отдельную учительницу английского языка; но всего охотнее я занималась музыкой и пением. Это было моей страстью. По всей вероятности, будь у меня тогда средства уехать учиться в Париж, из меня выработалась бы замечательная певица. Я трогала одним тембром. Часто даже когда я пела, не вкладывая в звуки личного своего чувства, они казались сами по себе проникнутыми печалью, негой, радостью. Это как-то шло помимо меня. Мой голос был, что называется, поставлен от природы, и то, что другим давалось с таким трудом, что требовало целых годов упорных занятий, я схватывала в какой-нибудь месяц. Мои трели, стаккато, гаммы были так хороши, что когда какая-то оперная звезда приехала к нам и прослушала меня, она обратилась к maman и спросила ее:
– За что же я получаю по две тысячи рублей в вечер? Она делает это лучше меня.
В то же время мое «canto largo» отличалось спокойствием и силой. Моя нервность не передавалась ему. Дыхание у меня было длинно, и когда, прослушав Патти, наши вернулись в восторге нее и как на чудо указывали на то, что «Dite alia giovane» она поет, не останавливаясь ни на секунду, чтобы перехватить воздуха, – я им повторила тоже самое. Я отличалась большою музыкальной памятью. Но начальница не хотела и слышать о сцене для меня. Впоследствии, когда смерть в первый раз постучалась ко мне в грудь, я должна была совсем оставить пение. У меня уже не было силы для него! Теперь я иногда вполголоса мурлыкаю кое-что, а забудешься, отдашься волне нахлынувшего на тебя чувства, бросишь словно вызов смелую музыкальную фразу, и сейчас же кровь горлом и долго потом душит кашель усталую грудь, и точно скрипят в ней какие-то ржавые валики, как в старой шарманке, которую набежавшие мальчишки вдруг растревожили, повернув ее, целыми слоями пыли покрытую, ручку.
Я хорошо изучила языки и хорошо писала. Наш учитель словесности, красневший постоянно, несмотря на свои сорок пять лет и довольно-таки внушительный объем, к которому очень не шло его херувимское лицо, горячо убеждал меня сделаться писательницей, указывая на пример Сталь, Жорж Санд и других.
– Посмотрите – Бичер-Стоу… Знаете ли вы, сколько она денег заработала своими романами! А Эллиот?
К этому, то есть вопросу о деньгах и о заработке, сводились все рассуждения сорокапятилетнего херувима. Смеяться над этим грешно. Бедный труженик, работая с утра до ночи, едва мог свести концы с концами, содержа глухонемую сестру, шалопая брата, не желавшего ничего делать под тем предлогом, что нынче честные люди должны стоять в стороне от какой бы то ни было деятельности, чтобы не запачкаться ею, и старуху мать. Я никогда, впрочем, как и никто из нас, не слышала от него жалоб на свое положение. Он только все сводил к тому, где, на каком поприще и в какой стране всего более зарабатывают. Его можно было бы счесть материалистом, но ему так тяжело жилось, что иного от него нельзя было бы и ожидать…
Но, как видите, ни Патти, ни Жорж Санд из меня не вышло. Оказалась самая заурядная и ни на что не годная женщина.
В последний год моего пребывания в институте мне предстояла очень трудная задача – решить, что мне делать. В руках у нашей maman находилось несколько тысяч моих денег, – единственное, что осталось от отца после его ранней смерти. Я не знала, куда мне деваться, хотела уже остаться при институте, подобно другим и весьма многочисленным сиротам, как вдруг совершенно неожиданно-негаданно меня вызвали вниз в приемную залу. Меня ждала там пожилая дама с очень добрым лицом и несколько ленивыми глазами. Она крепко обняла меня. Она оказалась моею родной теткой, сестрою отца, все время жившею в провинции у себя в имении. На днях она потеряла свою дочь, умершую от чахотки, и решила просить меня жить вместе с нею; я колебалась, но она показалась мне до такой степени убитой своим горем, что мне, наконец, стало жаль ее.
– Я одна, Аня, совсем одна теперь. Мне даже страшно. Я боюсь сойти с ума.
Муж ее умер давно уже, оставив ее с тремя детьми. Все они один за другим последовали за отцом в разное время, и все – от чахотки. Тетя жила у себя и, только схоронив последнюю дочь, решила переехать в город. Она, эта добрая старушка, в моей жизни не играла почти никакой роли. Она все время как-то оставалась в стороне, ни во что не вмешиваясь. Ей было отрадно видеть около себя молодое существо, несколько раз в день перекинуться с нею двумя-тремя словами, любоваться ею издали, слышать шум ее шагов по комнате. Она была счастлива уже тем, что не чувствовала себя одинокой… Это был удивительный характер. Ее вечное безмолвие отнюдь не оказывалось признаком неразвитости, недалекости. Напротив, как вся отцовская семья, она получила отличное воспитание, много читала и при мне покупала массу книг на разных языках. Ее очень интересовали вопросы, над которыми уже несколько тысячелетий бьется мир и в бессилии отступает от них, не решив их ни в ту, ни в другую сторону. С жадностью она перечитывала Гартмана и Шопенгауэра, билась над увесистыми томами писателей-скептиков и, окончив, говорила тихо:
– Нет, это не то, совсем не то. Слишком сложны, слишком деланы все их выводы и объяснения. Ты знаешь, – раз обратилась она ко мне, в редкую минуту, когда ей хотелось говорить больше обыкновенного, – ты знаешь, кого мне эти господа напоминают? Был у нас в Ельце самоучка мещанин, его считали необыкновенно умным, и он потратил пять лет жизни на что бы ты думала? – Чтобы создать громадную с шестернями, колесами, колесиками, рычагами, молоточками машину для разбивания орехов. При машине должен был находиться специально человек. Он даже паровую трубу хотел приладить к этому чудовищу. Я ему и говорю: зачем это, когда для раскалывания орехов есть простые щипцы? А он мне обидчиво этак: «То, сударыня щипцы, которые всякий мужлан может сделать, а до этого я своим собственным умом дошел».
Ее особенно стали интересовать мистические вопросы после смерти ее последней дочери. Она было занялась даже спиритизмом, но потом бросила. И тут, говорила она, фальшь какая-то. Ну, станет ли великий дух, бесконечный, витающий, по-ихнему, в области четырех измерений, для которого нет преград, вдруг проявлять себя банальным стуком, столоверчением и тому подобною чепухою? Она любила останавливаться подолгу над лицами мертвых. Старушка пристально смотрела в них и раз объяснила мне, чего она доискивается.