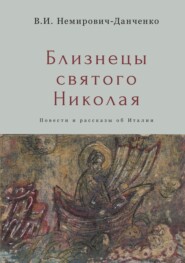По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исповедь женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты знаешь, у них всегда странное выражение, точно полуосвобожденный дух, узнав другой мир, оставил проблеск какого-то удивления, какого-то вопроса в этих неподвижных чертах… Смотрит, и на рубеже двух миров видит и тот и этот в одно и то же время.
Над нею смеялись. Смеялась и я, стараясь не обидеть ее. Но она не обижалась.
– Слепы все, все! – говорила она. – И я была бы счастлива, коли бы меня не учил в детстве один libre-penseur, француз. Была бы гармония! – Доучи меня он, поддайся я ему – была бы гармония неверия, будь у меня другое воспитание – явилась бы гармония веры. А теперь везде вопросительные знаки какие-то, только мешающие видеть свободно.
Чаще всех она спорила с одним своим родственником, ни во что не верившим. «Меня, сударыня, этим не проймешь», – говорил он и в то же время страшно боялся трех свечей на столе, паука утром (вечером, напротив, паук предвещал ему удачу), разбитого зеркала. Спать один в темной комнате он не мог, ему все что-то чудилось, и когда говорили о чьей-нибудь смерти или несчастии, он считал необходимым вынуть незаметно платок и плюнуть в него. День, в ночь на который ему снились кошки, был для него ужасен. «Вот вы увидите, что-нибудь да случится скверное со мною». И если не случалось, он доискивался, нет ли хоть самого маленького праздника, тогда сон, видите ли, был ни к чему. Этот-то самый «либр-пансёр» раз задал тете вопрос:
– Ну, хорошо. Положим, душа бессмертна и ужасно, по-вашему, умна… А почему при такой душе человек столь несовершенен и глуп? Делает такие разные поступки?
– Потому что тело скверное, несовершенное, как ты говоришь.
Тетя ему, по старой барской привычке, как младшему, говорила ты.
– Да я не о теле. Душа так зачем себя проявляет?
– Ну, вот что, – задумывалась тетя, – посади-ка ты Рубинштейна за старое и разбитое фортепиано, где несколько струн полопалось. Контроктава хрипит, четвертая октава дребезжит только и шипит, а малая октава вывалилась совсем. Ну-ка, как твой Рубинштейн сыграет на этом фортепиано! Пусть-ка он попробует, что у него выйдет? Ведь из этого ты не станешь выводить заключение, что Рубинштейн играет скверно, а скажешь, что инструмент невозможно плох. Так и душа…
Я нарочно привожу это здесь. Мне приятно самой вспомнить, что она вовсе не была глупа, как называли ее другие. Напротив, из этого видно, что она не лишена была остроумия…
После такой отповеди тетя надолго смолкала и задумывалась.
– Тетя, милая! – тормошила я ее бывало.
– А! Что? – точно приходила она из какого-то другого мира.
– О чем опять?..
– Так, Аня!
Она писала даже что-то такое и много. Но незадолго до, как говорила она, «четвертого измерения», т. е. до смерти, сожгла все написанное. Не удалось выпросить у нее ни одного лоскутка.
Как это ни странно, но тетя с ее мистицизмом разбудила во мне дремавшую дотоле мысль. Дело в том, что за последнее время в институте я так много работала, так много читала, что первое время, выйдя из него, я как-то опустилась, бросила книги, не развертывала своих любимых писателей и даже с большим усилием могла заставить себя присесть за рояль. Восточная женщина сказалась в этом. Вокруг все было так тихо и мирно. Кроме «либр-пансёра», боявшегося кошек во сне и несколько будировавшего, все остальные, посещавшие тетю, были по большей части бедные люди или уже одолженные, или одолжаемые ею. Они до такой степени держали себя безлично и смиренно, что, надо сказать правду, иногда мне становилось скучно. Я ездила в оперу, но к итальянцам тогда было трудно попасть, все ложи оказывались забронированными. Что касается до русских, то как теперь, судя по слухам, так и тогда наши никуда не годились.
Полное однообразие моей жизни за то время нарушилось только двумя событиями. Во-первых, «либр-пансёр» раз как-то явился к нам со столь многозначительным видом, что я не удержалась и спросила его:
– Боже мой! Что с вами? Уж не открыт ли способ приготовить человека в реторте?
– Нет, это дело будущего, более или менее отдаленного. Нет!.. А я прошу позволения представить вам молодого ученого, имя которого уже с уважением произносится за границей и в прочих местах.
– Кто это?
– Сам Островитинов! – И он пресмешно поднял брови ко лбу и сжал многозначительно губы.
– Что значит сам? Что еще это за новые знаменитости?
– А то, что он открыл новую бактерию патриотизма.
– Как? – даже привстала тетя. Она всего ожидала от нашего «либр-пансёра», только не этого.
– Ну, да! Известно теперь, что все эти так называемые чувства, как-то: любовь, страсть, вражда и т. д., обусловливаются пребыванием в человеческом организме специальных для каждого из них бактерий. Ну так вот Островитинов открыл бактерию патриотизма. Вы понимаете, что это значит? И «либр-пансёр» вскочил даже в порыве неодолимого волнения. – Вот, например субъект, положим X, принужденный продолжительное время пребывать вне своего отечества… Ах, опять у вас три свечки! («Либр-пансёр» живо задул одну). Бактерии патриотизма в нем размножились до того, что он начинает страдать ностальгией. Стоит только вспрыснуть ему по пастеровскому методу контрбактерий космополитизма, и все кончено. Вы схватываете мою мысль?
Но тут уже ни я ни тетя не выдержали. Мы расхохотались так искренно, что бедный философ схватился за шляпу и выбежал вон; впрочем, как ни был он взбешен, но заметив в передней выпавший гвоздь, тотчас же поднял шум на целый дом, объявив нам: «Вот увидите, а кто-нибудь здесь да потеряет деньги!..» Через два дня явился к нам с Островитиновым. Это чудо микроскопии было облечено в какой-то серый пиджак и зеленый галстук. Белье на нем оказалось не первой свежести, и, вероятно по множеству занятий и за недостатком времени, сей великий муж никогда не чистил себе зубы. Волосы каким-то хохлом взвивались у него на лбу… Уши, точно ручки к котлу, были торчмя припаяны к его голове. Очевидно, он происходил от чресл Авраамовых. Впрочем, по наглому виду, это было ясно и без ушей! Он, небрежно кивнув мне, дотронулся холодной и влажной рукой до руки тети и бухнулся на диван так, что все кругом задрожало. С первого раза он заявил нам, что он работал с самим Кохом, делал доклад в берлинском медицинском обществе, что его знают в Европе, Америке и Австралии, но что в Россию он вернулся только для того, чтобы женится… При этом он бросил на меня ободряющий взгляд. Дескать «старайся, и я, пожалуй, сделаю тебе предложение». Предпочтение, отданное им в этом случае России, объяснялось тем, что только русская женщина может если не возвыситься до его гения, то понять его и служить ему. Потом ему нужны деньги, ибо наука требует расходов. Если бы он был шарлатан, он, разумеется, занимался бы практикой; но он хочет оставить свое имя в наследие потомству, сделав его рубежом между прошлым и настоящим, так, чтобы впоследствии, лет этак через тысячу, говорили: «Это было до или после Островитинова». У него была при этом препротивная манера, говоря, щупать себе нос, точно он опасался за него, как бы тот не слетел, не унесся в пространство. И как он выбалтывал все! Я могу сравнить это только с одним. В бессонную ночь, после дождя, лежишь и слушаешь, как с крыши на железный лист подоконника падает капля за каплей. Медленно, правильно… кап… кап… кап… Сначала относишься равнодушно, потом нервы начинают шалить – кап… кап… кап… уже ждешь и считаешь. Еще несколько погодя, делается какое-то тоскливое состояние духа, с каждой каплей все усиливающееся; наконец вам кажется, что эти капли падают на вас самих, на ваш мозг, пронизывают вас насквозь! Закутываешься с головою в одеяло, кладешь ее под подушку, но и тут все чудится это кап… кап… кап… Наконец вскакиваешь, как безумная, и уходишь в другую комнату, чтобы не слышать этого. Островитинов «капал» таким образом целый вечер. Излагал медленно, скучно, выжимая слово за словом, капая всю теорию своих бактерий патриотизма; самодовольно и благосклонно намекнул, глядя в мою сторону, что ему тоже не чужды, при всех его занятиях, бактерии любви, и, наконец, попросил себе, как в трактире, бифштекс.
– Я, знаете, всегда привык в это время… С полубутылкой красного вина.
Тетя смотрела на него во все глаза. Ему подали бифштекс. Он как-то особенно быстро съел его, затем снял хлебом весь соус с тарелки, проглотил хлеб и, окончив это занятие, поморгал на свечи и на лампу, полез в один карман, потом – в другой и вдруг поразил нас вопросом:
– А нет ли у вас носового платка? Я свой забыл дома.
– Ученые все рассеяны! – извинился за него «либр-пансёр», все время восторженно смотревший ему в рот, точно оттуда должна была вылететь какая-нибудь необыкновенная птица и произнести нечто особенно великолепное.
Рассказав нам затем план будущих своих работ, он вдруг встал и начал прощаться.
– Пожалуйста, заходите! – пригласила его тетя из вежливости.
– Да, пожалуй, я к вам зайду; вы, знаете, мне понравилось. Я люблю простых русских людей, но я все время за работой. Единственный свободный у меня час – это шесть, когда я обедаю, так что если вы пригласите меня обедать – я могу… Вы меня простите, я ведь по нашему доброму русскому обычаю.
– Бактерия патриотизма? – я угодливым смехом пошутил «либр-пансёр».
– Да, что хотите… Я все-таки русский человек.
«Либр-пансёр» пошел его провожать на лестницу сам, не допустив до этого горничную, подал ему пальто и калоши, обвязал ему шею гарусным шарфом (чудо микроскопии страшно боялось насморка!) и вернулся, точно с Синая, сияющий и ополоумевший от экстаза.
– Вот человек! Какая оригинальность, самобытность… И заметили, что он уже дошел до той степени, когда перестают стесняться? Он знает свою силу и значение и не намерен поступаться своими желаниями и привычками ради глупых церемоний. Он отбросил от себя все… Вы понимаете? Он один велик, а окружающее все мелко. Он снисходит к нему. О, это настоящая мощь! Вы, Аня, счастливица, – неожиданно для меня разразился он обращением ко мне.
– Почему это? – удивилась я.
– Да уж так!.. Вы ему понравились… Я его спрашивал – какова? А он подмигнул, ткнул меня кулаком в живот, вот в это самое место (и он благоговейно коснулся «этого самого места») – мы ведь с ним друзья – и говорит мне: «Весьма удовлетворительна, весьма и весьма добропорядочна». Даже о том, есть ли что за тобою справился. «Мне, объяснил, жена нужна с приданым, чтобы я, не заботясь ни о чем, мог продолжать далее свои открытия». У него все вперед рассчитано, все. О, это такая голова! Он, знаете, самого Коха «старым дураком» называет!
«Такая голова» предъявилась дня через два и прямо к обеду.
Ел он необыкновенно много и так поспешно, точно думал, что каждую минуту у него могут отнять лакомое блюдо и затем он умрет от голода. Набросав себе в рот множество кусков и проглотив их с какою-то звериной жадностью, он как-то противно отвалился назад и, сопя, осматривал нас посоловевшими глазами. После обеда он сделал мне род экзамена. – Где и чему я училась, что читала, способна ли я понять всю прелесть – скрасить жизнь великому ученому и самоотверженно служить его гению, его открытиям, на удивление современникам и на благо потомству и т. д. Я нарочно ему отвечала обстоятельнейшим образом, внутренне смеясь. Островитинов остался результатом этих переговоров вполне доволен. Мысленно он поставил мне пять баллов, одобрительно кивал мне головой и сладко пробегал по всей моей фигуре своим отвратительно бесцеремонным взглядом. На другой же день он прислал мне письмо. Привожу его целиком, как оно было им написано. «Время дорого, и тратить его надо скупо. Потому буду краток. Вы мне понравились, думаю, что лучше жены я найти пока бы не смог. Впрочем, я снисходителен. Хотите разделить мою будущность, я поведу вас к славе. Мы, впрочем, уже поняли, как мне кажется, друг друга. Посему вступления излишни, делаю вам предложение. Через неделю свадьба, после чего едем за границу, ибо меня ждет моя берлинская лаборатория, – а наука прежде всего. Чтобы вы знали, где помещались мои произведения, привожу им точный список, вот они:
«О кровообращении у раков…» (следует наименование ученого журнала и указание отзывов, напечатанных в специальных изданиях).
«Нервы сверчка» (тоже).
«Энергия силы муравья по отношению к такой же у кузнечика». И так далее вплоть до знаменитого ряда бактерий, заключавшегося «бактериями патриотизма»…
Зачем я вспоминаю об этом теперь? До того ли мне? Не знаю, но так приятно останавливаться на каждой, пустой даже, мелочи моего прошлого, переживая его опять, день за днем, час за часом… Я и теперь, приговоренная, смеюсь, как тогда, смеюсь от души, перечитывая письмо этого влюбленного в себя ученого. Он, впрочем, плохо кончил, бедный. Ему удалось, наконец, прельстить своими открытиями какую-то старую деву с большими деньгами. Но – увы! – уехав с ним в Берлин, она увлеклась его ассистентом, плечистым немцем, и отправилась с ним куда-то далеко, оставив мужа с его ретортами, колбами и ушами вроде котельных ручек, но без гроша денег. Так же неудачно кончил и наш родственник «либр-пансёр». Он все время носился со своим неверием, стараясь развивать всех подходивших и не подходивших к этому субъектов, пока не наткнулся на совершенно непредвиденное им обстоятельство. Спиритизм был тогда в моде, и, между прочим, тетя пригласила к себе какую-то провинциальную актрису, славившуюся в качестве удивительного медиума и поэтому страдавшею водо- и мылобоязнью. Она была, что называется, на все руки: между прочим, пела в оперетке, ухитряясь делать это без всякого голоса. Некрасивая, она смотрела вдохновенно и закидывала волосы назад, приготовляясь к сеансу. К нам она явилась с сигарным ящиком без крышки; поперек его была вделана проволока, а в боках проделаны отверстия. Сквозь эти отверстия на проволоке лежала линейка с алфавитом. Медиум госпожа Офоськина и еще кто-нибудь касались руками концов линейки, она начинала шевелиться, двигаться и там, где останавливалась, буква, находившаяся в этот момент у проволоки, отмечалась… Сначала дело не шло, «либр-пансёр» мешал своими шуточками, которые он находил остроумными и сам первый хохотал над ними.
Потом он сам с госпожой Офоськиной сел к линейке и задал неведомому духу вопрос:
– Кто я?
Неведомый дух ответил кратко и выразительно:
– Дурак.