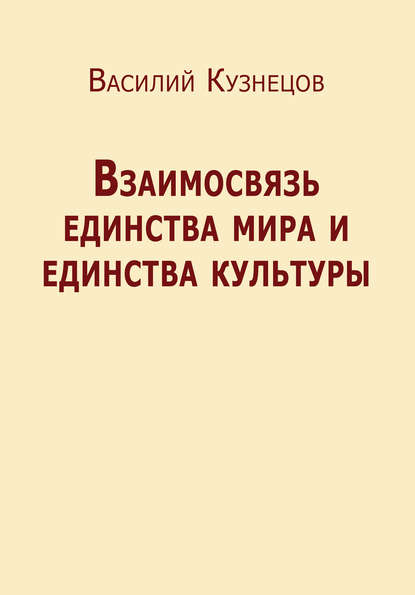По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взаимосвязь единства мира и единства культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самой, пожалуй, радикальной и смелой (в смысле последовательного и бескомпромиссного продумывания всех следствий из открытых и принятых положений) концепцией античности, ставшей если не парадигмальной моделью и эталоном, то как минимум идеалом и неявной целью для всей классической философии, можно сказать, является учение Парменида, который не только отождествил мышление (правильное) с бытием (подлинным)[39 - «NOEIN=EINAI (“мыслить”=“быть”, первоначальное тождественное сущее-мыслимое, члены тождества, совпадающие буквально с точностью до перестановки)» [345, с. 206].], но и промыслил получившейся абсолют как предельное сферическое совершенство монолитной недвижимой цельности. Этот результат был достигнут ценой полного отказа от всякого движения, любой пустоты и даже небытия на самом фундаментальном уровне, хотя на уровне непосредственно воспринимаемого чувствами множественность и движение очевидно наблюдаются. Лосев даже отмечает, что для Аристотеля «нет ничего удивительного в том, что элейцы проповедуют одновременно и лишенный множественности мир бытия и вполне множественный, подвижный мир чувственных ощущений. Наоборот, в единстве того и другого он находит целость и совершенство, потому что не существует ничего такого, чего не хватало бы парменидовскому единому, или бытию, или что существовало бы отдельно от него (А 27)» [279, с. 355].
Радикальность отрицания небытия обосновывается Парменидом и его школой почти оскорбительно ясной тавтологией, ибо есть только то, что есть, и совсем нет того, чего нет, и последовательное мышление не может не прийти к такому и только такому результату, а множественное и движение, будучи не менее последовательно обдуманными, просто должны быть исключены как невозможные. «Множественность, которую они отрицали, была абсолютно раздельной множественностью, в которой ни один элемент никак не объединялся с другим элементом; поэтому Зенон и доказывал, что пройденный путь, разбитый на отдельные, ничем не связанные между собою расстояния, вовсе не есть пройденный путь – такого пути вообще нельзя пройти… И это вовсе не является отрицанием множественности вообще, а только множественности с абсолютной изоляцией составляющих ее частей» [279, с. 364]. А ведь именно таково множественное, противостоящее абсолютному монолиту единого в своей цельности бытия, которое совпадает с мышлением.
Однако, среди ранних греческих философов были и сторонники множественного, пытавшиеся отрицать единое. К ним относятся прежде всего атомисты. «Левкипп… пошел не тем же путем [в учении] о бытии, что Парменид и Ксенофан, а, судя по всему, противоположным: тогда как они полагали универсум единым, неподвижным, невозникшим и конечным и не разрешали даже исследования не-сущего [“=того, чего нет”], он принял атомы как бесконечные [по числу] и вечно движущиеся элементы» [472, с. 276]. Аналогично «примат множества над единством весьма решительно проповедовал Демокрит, по которому из атомов “отнюдь не образуется поистине единая природа”» [274, с. 621]. В определенном смысле атомисты представляют собой прямую альтернативу элейцам: «они, попросту говоря, разбили Единое Парменида на бесконечное количество неделимых частиц, но оставили за ними все те свойства неделимости, неразрушимости, бескачественности и внутренней неподвижности, каковые Парменид приписывал своему Единому; а двигаться они стали только благодаря образовавшейся здесь же пустоте. Другими словами, атомизм есть попросту принцип индивидуальности, или, что то же, принцип множественности» [279, с. 495].
Тем не менее, концепция атомистов, ставшая позднее парадигмаль-ной моделью для механицизма и элементаризма нововременной науки, хотя и подчеркнуто провозглашала отрицание единого (прежде всего, конечно, монолитного единого парменидовского типа), тем не менее вынуждена была признавать связность собственной мысли и взаимодействие атомов. «Каждый атом, согласно этой концепции, оказывался связанным по самой своей природе со всей бесконечностью атомов, существующих в космосе или в космосах. Таким образом, каждый атом, несмотря на самопроизвольное движение всех атомов, оказывался функционально связанным решительно со всеми атомами вообще и с каждым атомом в отдельности» [279, с. 469]. Так что так просто и прямолинейно от единства избавится не удалось – даже парменидовский монолит у атомистов сохранялся на уровне отдельного атома, а на уровне всего космоса (и всей концепции) воспроизводился принцип связи. Аналогично и софисты, стремясь к индивидуальной единичности, обнаружили в пределе ее парадоксальную немыслимость. «Софисты открыли, что единичное алогично как таковое: к нему неприменимо общее понятие, а необщих понятий не бывает» [183, с. 12].
Начиная с Сократа центр внимания греческой мысли смещается с природы на человека, с космоса на логос. «Специального рассуждения о единстве от периода средней классики до нас не дошло, но ясно, что оно здесь было не чем иным, как дискурсивным исследованием общностей, то есть стремлением дискурсивно преодолевать дискретно данные вещи и понятия» [274, с. 622]. Способ разворачивания мысли считается теперь даже более важным, чем те или иные конкретные готовые результаты. Применительно к пониманию единого это означает, что важнее способ установления и прослеживания любых связей, нежели отдельные их примеры.
Платон выстраивает более гибкое и синтетическое – апорийное, парадоксальное и антиномичное – понимание единого, подробно разбирая практически весь спектр мыслимых возможностей в диалоге, который называется, что весьма симптоматично, «Парменид» [365]. Лосев так резюмирует выводы Платона: «То, что мыслится, необходимым образом – одно. Тем не менее диалектика обнаруживает, что это одно, поскольку оно мыслится как именно одно, лишено каких бы то ни было категорий, т. е. мысль об одном требует, чтобы оно не мыслилось. Если мы возьмем мир, или бытие, как совокупность всех вещей, то – 1) мы не можем мыслить этот мир как не-одно, ибо мир есть нечто одно определенное (или его нет для мысли); мы обязаны мыслить его как нечто единое, одно. С другой стороны, 2) это самое единство мира, делающее его одним определенным целым, необходимым образом должно стоять вне всякой мысли и вне бытия. Мысль требует немыслимости, и логическое абсолютно тождественно с алогическим» [271, с. 110–111]. Так что в конце концов получается, что такое парадоксальное единое, неизбежно охватывающее всё, оказывается – не в последнюю очередь как раз благодаря своей всеохватывающей парадоксальности – совершенно неустранимым[40 - «Если единое не существует, то ничто из иного не может мыслиться ни как одно, ни как многое, потому что без единого мыслить многое невозможно» [365, с. 412].]. «Иными словами, всё живет единым: если не его утверждением, то его отрицанием, если не положительной, то отрицательной связью с ним» [110, с. 125].
У Аристотеля читаем в «Метафизике» (1088а): «единое означает меру некоторого множества, а число – измеренное множество и меры, взятые много раз (поэтому также правильно сказать, что единое не есть число: ведь и мера – это не множество мер, и мера и единое – начало)» [18, с. 351–352]. Тем самым Аристотель уходит от гипостазирования единого. «Мера, единица меры – это главное значение единого у Аристотеля, хотя и не единственное. Понятно, что единое в своей функции “меры” является не “подлежащим”, а сказуемым, не сущностью, а “отношением”» [110, с. 208]. Тем не менее, Лосев замечает по этому поводу, что у Аристотеля «вещь есть целое, которое, однако, выше и всякой ее отдельной части и суммы всех этих ее частей. Значит, если бы Аристотель применил это свое учение о целом ко всему миру вообще, то он и получил бы платоновское Единое, которое выше всяких отдельных частностей, составляющих мир» [273, с. 41]. Поэтому несмотря ни на что «Аристотель становится ярким выразителем категории единства в смысле структурного построения этого единства и тем самым систематическим выразителем, для периода всей античной классики, концепции единства как единораздельной целостности» [274, с. 625]. Иными словами, единое превращается у Аристотеля в некоторый системный эффект, появляющийся в результате взаимодействия множества компонентов.
Неоплатоники рассматривали единое как наиважнейшее начало всего, из которого эманирует весь мир в целом. «Единое Плотина – выше всякого определения и даже выше единства; Нус – един, но лишь как объединение многого; мировая Душа – едина, но лишь как объединение времен на лоне Идеи, Нуса, отдающего себя во власть распадения и индивидуализации» [271, с. 88]. Уже тут намечается различение отдельных видов единого. Позднее «Единое Плотина Ямвлих разделяет на два начала; но это делается у него, насколько можно судить, вполне в духе Плотина. Именно Ямвлих различает в едином одно такое, которое действительно выше всякого познания и бытия и выше всякого наименования, другое же – такое, которое является началом всего последующего и которое поэтому и заслуживает наименования в качестве единого и блага» [276, с. 167]. Таким образом, можно зафиксировать отчетливо проведенную неоплатониками концептуализацию различных уровней единого.
«Во всех… длинных и подробных рассуждениях Плотина об единстве лежит одна прекрасная мысль, прекрасно формулированная еще в платоновском “Пармениде” (141е-142а). А именно: одно, если только оно действительно одно, не может быть охарактеризовано совершенно никаким признаком. Если оно есть только одно, – значит, нет ничего иного. Если нет ничего иного, – значит, одно ни от чего не отличается. Если оно ни от чего не отличается, оно не есть нечто. Если оно не есть нечто, оно есть ничто. И т. д. и т. д. Против этого хода мыслей возразить совершенно ничего невозможно. Правда, бытие есть не только одно. Но Платон и Плотин и не думают утверждать, что оно есть только одно. Они только говорят: если бытие есть одно, то… и т. д. Другими словами, есть такой момент в бытии, где оно является абсолютно одним, абсолютной единичностью. Вот его-то Плотин с Платоном и называют Единым, или Благом» [275, с. 871]. Иными словами, высшее единое парадоксально и абсолютно, что не отменяет возможного наличия разнообразных других уровней единого, объединяющего множественное. «Резюмируя учение Платона-Плотина-Ямвлиха-Прокла-Дамаския об одном, – подводит итог Лосев, – надо сказать следующее. 1) Одно есть чистая немыслимость, чистое “сверх”, абсолютная немыслимость. 2) Одно есть относительная немыслимость, как начало диалектического пути, абсолютная единичность. 3) Одно, далее, вступая во взаимоопределение с иным, дает потенцию сущего, или число, множество, чистое “как” сущности, или сферу “пресущественных единств”, чисел. 4) Одно, далее, берется как осуществившаяся потенция, т. е. как самостоятельный эйдос, или число как эйдос. 5) Наконец, одно (как эйдетическое число) получает существенное заполнение и становится одним чего-нибудь; это и есть переход “одного” через “множество” к “сущему”» [271, с. 352]. В этом смысле неоплатоники выстраивают подробную иерархию бытия сообразно тому, какого рода или типа единое имеется на том или ином уровне.
Таким образом, в греческой философии единое рассматривалось не только и не столько как нечто наличное, сколько в качестве своего рода высшего принципа – всеобъемлющего и всеохватывающего. А «под принципом в античности понимали не абстрактно-изолированное и неподвижное общее понятие, но такое общее понятие, которое было заряжено всеми вытекающими из него видами и единичностями, формулируя для этих последних их проблему и то, что является основой (hypothesis) ее решения» [274, с. 524]. Так что единое оказывалось одновременно и проблемой, и началом, и методом. Например, «Дамаский прямо говорит, что единое есть не просто принцип чего бы то ни было, но выше всякого принципа и является, собственно говоря, принципом всех принципов, до всех принципов… Это единое предшествует монаде и диаде. Значит, оно не есть даже и монада, не говоря уже о диаде. Прямо сказано: единое – выше всякого единения и двоения» [277, с. 144]. Иными словами, единое выступает не просто принципом, но принципом исходным, изначальным, не требующим для своего обоснования ничего иного. «Единое вообще не есть нечто, хотя в то же самое время оно и является тем, что Платон называет “беспредпосылочным началом”» [273, с. 31]. Аналогично «во главе всех принципов находится у Плотина единое как “беспредпосылочный” принцип» [274, с. 526].
Боэций прямо отождествляет единое с бытием: «то, что не едино, вообще не может быть, поскольку бытие и единое обратимы, и все, что едино, – есть. Даже вещи, соединенные из многих, как например, стадо, толпа, хор, суть нечто единое» [61, с. 176]. Бибихин поясняет: «Он <Платон – В.К.> и вся классическая философия упрямо повторяют свое: единство не свойство и не тенденция бытия, бытие есть единое, единое есть бытие, unum et esse convertuntur… бытие и единство взаимообратимы. Не то что бытие приобретает со временем, постепенно, по ходу развития черты единства или с самого начала обладает единством как своей чертой или признаком, а другое: бытие есть единство, нет единства, которое не было бы бытием, нет бытия, которое не было бы единством» [48, с. 27–28]. Такое понимание единого осталось общепринятым и в средневековой философии, несмотря на противопоставление Бога и тварного мира, Бога и человека.
Карл Ранер подчеркивал, что «в схоластике различаются мнения относительно того, относится ли “единственность” как позитивное совершенство к “сущему” так же, как “истинность” и “благость” [платоновско-августинианская линия], или она есть только отрицание делимости, которое никоим образом не свидетельствует о том, что установлено и осмыслено уже не “сущим” [аристотелевско-томистская линия]» [373, с. 333].[41 - Ср.: «Единство в арабо-мусульманской философии выражалось рядом близких терминов: “вахда”, “’ахадиййа” (реже “вахидиййа”) с соответствующими “вахид”, “’ахад” для “единый”; первое передает единство как не-множественность, второе – как единственность. Их соотношение емко выразил ал-Фараби, указавший, что ’ахад происходит от вахид (единственный), не входит в ряд чисел и обозначает то, что не имеет подобия ни в мысли, ни для чувства, тогда как вахид обозначает то, что “едино по самости” (мутаваххид фи аз-зат). Ваххада (делать единым, считать единым) и соответствующее тавхид (обеспечение единства в бытии или мысли) замыкают ряд важнейших терминов, группирующихся вокруг понятия единства» [414, с. 18].] При этом Августин полагал, что решение вопроса о Боге и душе зависит от решения вопроса о единстве [см. 109; 567], а для Фомы единое было неустранимой предпосылкой мышления: «Если не мыслится единое, то ничего не мыслится, ибо мыслящий должен отличать то, что он мыслит, от всех прочих вещей» [Цит по: 109, с. 15]. Тем самым преодолевается так или иначе абсолютность противостояния тварного и творящего. «Онтологическую позицию, согласно которой мир, не будучи тождествен Богу, пребывает в Боге своею сущностью (ens), называют, как известно, панентеизмом. Таким образом, христианский платонизм есть по своей онтологической структуре панентеизм, а всеединство в этой структуре – элемент, посредствующий между миром и Богом» [505, с. 40].
Средневековая философия задает основания и принципы для теологии, в том числе и применительно к проблеме единого. «Такая теология единства должна исследовать ортодоксальные и еретические учения в соответствии с тем, какое понятие единства скрыто лежит в их основе. Только тогда возникло бы содержательное понятие единства: единство, которое не есть мертвое однообразие непосредственно в себе неразличимой застылости, ведь его собственное совершенство владеет в нераздельной и неисчислимой множественности действительно триединой простотой Бога; единство множественного, в котором чистая множественность (нетождественность) в истинном внутреннем единстве сущего сохраняется посредством того, что, с одной стороны, основа единства сущего самоосуществляется в высвобождении реально множественных моментов и, с другой стороны, такое внутреннее единство реально нетождественных моментов указывает на трансцендентное, но потому и не обнаруживающееся сущему единство Бога, на котором не только основывается собственное единство творения, но и из которого оно продолжает извлекать себя самое, в конечном счете всегда недоступное (в противоположность любому монизму бытия и действия (тоталитаризму), который демонстрирует лишь самомнение и самовольство некоего единства, которое подобает всегда только трансцендентному Богу и тайне его единства). Определение Халкидонского Собора (“нераздельно и неслиянно”) задает основную формулу единства тварного в его высшем случае (Иисус Христос), учения о троичности и единства в божественном» [373, с. 334].
Николай Кузанский акцентирует внимание на несколько иных аспектах единого. «Максимумом я называю то, больше чего ничего не может быть. Но такое преизобилие свойственно единому. Поэтому максимальность совпадает с единством, которое есть и бытие. Если такое единство универсальным и абсолютным образом возвышается над всякой относительностью и конкретной ограниченностью, то ему ничего и не противоположно по его абсолютной максимальности. Абсолютный максимум есть то единое, которое есть все; в нем все, поскольку он максимум; а поскольку ему ничто не противоположно, с ним совпадает и минимум. Тем самым он пребывает во всем» [343, с. 51]. Иными словами, речь идет не только о всеохватности единого, связывающего противоположное, но и – одновременно – о принципиальном отсутствии противоположного единому, точнее, о его невозможности. «Николай говорит, что принцип “всё во всём” реализуется путем contractio (стягивание, сжатие). Это понятие (переводимое очень по-разному, и как “ограниченное” (в переводе С. А. Лопашова, 1937 г.), и как “конкретное” (в переводе В. В. Бибихина, 1979 г.), и как “стяженное”, у Л. П. Карсавина) обозначает особый способ или образ присутствия целого в своей части, либо одной части целого в другой: “любое находится в ограниченном виде в любом”» [505, с. 42].
Сравнивая подход европейской философской традиции с подходом арабской, А.В.Смирнов отмечает: «Центральной проблемой… служит вопрос о том, как мыслить единство множественного бытия или, что то же самое, как мыслить множественность единого бытия. Логически возможны два ответа на этот вопрос: множественность может пониматься либо как развернутое, либо как различенное единство. В первом случае отношение единство-множественность осмысляется через категории свернутости-развернутости: единство – свернутая множественность, а множественность – развернутое единство. Весь континуум бытия разворачивает нечто изначально-единое, и потому может быть (по крайней мере в мысли) свернут в изначальное единство. Во втором случае отношение единство-множественность осмысляется как отношение различенность-неразличенность: множественность – различенное единство, а единство – не-различаемая множественность. Множественность не возникает из единства, а наличествует внутри него. Это единство может быть эксплицировано бесконечным числом способов (плоскость – отображена в бесконечное число прямых); каждое такое отображение будет одной из возможных экспликаций единства, по объему равной любой другой. Поэтому знание, адекватное континууму бытия при таком понимании его единства и множественности, должно строиться как познание единого категориального континуума (уже содержащего в себе всю возможную множественность в неэксплицированном виде) и законов его различения. Легко заметить, что в первом случае мы имели в виду то понимание решения проблемы единства-множественности бытия, которое было выработано в европейской философии. Это решение, предложенное Николаем Кузанским, мы найдем и у Ф. Бэкона (его поиск “формы форм”), и у Декарта (последовательный вывод всех истин из наиболее очевидной). Во втором случае перед нами решение, прямо вытекающее из философии Ибн Араби» [413, с. 130–132].
В Новое время классическая западноевропейская философия совершенно отчетливо формулирует оппозицию субъекта и объекта, наиболее яркое воплощение получившую в дуализме Декарта. Однако и для Декарта важно прежде всего такое «понятие единства, которое каждый и без философствования испытывает в себе самом, а именно, что он есть единая личность, обладающая одновременно и телом и мыслью, и они таковы, что мысль может приводить тело в движение и чувствовать, что с ним происходит» [152, т. 2, с. 494]. Поэтому и Декарт продолжает поддерживать взаимосогласованность мыслящей и протяженной субстанций, хотя и с трудом может концептуально объяснить (шишковидной желёзой) их совмещение. Гегель по этому поводу замечает: «высшим раздвоением является противоположность между мышлением и бытием и интерес всех философских учений направлен на постижение их единства» [118, кн. 3, с. 273]. Тем не менее принципиально важным тут оказывается утверждение единства субъекта, мысль которого позволяет (благодаря знаменитому когитальному аргументу) заключать к существованию.
Принцип совпадения единого и бытия в наиболее отчетливом виде предстает в учении Спинозы о субстанции, которая, будучи причиной самой себя (causa sui), как раз и обеспечивает единство всего сущего и его основных свойств. «…Субстанция необходимо бесконечна и… следовательно, может существовать лишь одна-единственная субстанция (будет ли она конечная или бесконечная), так что одна не может быть произведена другой, но. все, что существует, принадлежит к этой единственной субстанции. таким образом, мыслящая и протяженная природа суть два из ее бесконечных атрибутов, из которых каждый в высшей степени совершенен и бесконечен в своем роде, и. поэтому. все особенные конечные и ограниченные вещи, каковы человеческие души и тела и т. д., должны рассматриваться в качестве модусов этих атрибутов; посредством этих модусов выражаются бесконечными способами атрибуты, посредством же атрибутов выражается бесконечными способами субстанция, или бог» [425, с. 69–70]. Именно последовательность Спинозы в отстаивании объединения протяженности и мышления (разделенными Декартом) высоко оценил даже Делёз: «Что имманентность бывает имманентна лишь себе самой, то есть представляет собой план, пробегаемый движениями бесконечности и наполненный интенсивными ординатами, – это в полной мере сознавал Спиноза. Оттого он был настоящим королем философов – возможно, единственным, кто не шел ни на малейший компромисс с трансцендентностью, кто преследовал ее повсюду. Он открыл, что свобода – в одной лишь имманентности. У Спинозы не имманентность относится к субстанции и модусам, а сами спинозов-ские концепты субстанции и модусов относятся к плану имманенции как к своей пресуппозиции. Этот план обращен к нам двумя своими сторонами – протяженностью и мышлением, а точнее, двумя потенциями – потенцией бытия и потенцией мысли. Спиноза – это та головокружительная имманентность, от которой столь многие философы тщетно пытаются избавиться» [156, с. 58]. При этом Спиноза вовсе не отрицал и возможность сосуществования отдельных непохожих людей. «Для Спинозы термин multitudo указывает на множественность, которая существует как таковая на общественной сцене, в коллективном действии, по отношению к общим делам, не соединяясь в Едином и не растворяясь в центростремительном движении. Множество – форма общественного и политического существования многих в качестве многих. Это постоянная, не эпизодическая и не промежуточная форма. Для Спинозы multitudo является краеугольным камнем гражданских свобод (Спиноза, Tractatus Politicus)»[42 - См.: [426].] [87, с. 10].
Лейбниц, напротив, постулирует исходное и фундаментальное существование множества субстанций, которые называет монадами. «Эти-то монады и суть истинные атомы природы, одним словом, элементы вещей» [254, с. 413]. Причем «всякая из таких субстанций в точности представляет весь универсум каждая по-своему и с известной точки зрения, и представления, или выражения внешних вещей, возникают в душе в данный момент в силу ее собственных законов, как будто в особом мире» [255, с. 278]. Однако, тем не менее Лейбниц утверждает также: «вся моя система основана на представлении о реальном единстве, которое не может быть разрушено, единстве sui juris, где каждый [элемент] выражает весь мир целиком, но каждый на свой лад, по законам собственной природы и не подвергаясь влиянию извне» [256, с. 296]. Так что единство оказывается не монолитом, а комплексом отдельных элементов, которые находятся в предустановленной Богом гармонии и отображают (каждый!) весь мир в целом. «И как один и тот же город, если смотреть на него с разных сторон, кажется совершенно иным и как бы перспективно умноженным, таким же точно образом вследствие бесконечного множества простых субстанций существует как бы столько же различных универсумов, которые, однако, суть только перспективы одного и того же соответственно различным точкам зрения каждой монады» [254, с. 422–423]. Считается [см. 567; 568], что именно у Лейбница впервые появляется само слово «единство»[43 - Ранее мыслители предпочитали говорить о «едином». Симптоматично, впрочем, что даже историки философии практически не различают значения этих слов, обычно употребляя их просто как синонимы, что легко видеть даже по приведенным выше цитатам.] (Einheit) в качестве обозначения некоторой общей характеристики, которое благодаря систематизаторским усилиям Христиана Вольфа закрепилось в философском лексиконе.
В немецкой классической философии единство мира как раз и определяется единством (трансцендентального) субъекта. По Канту «трансцендентальное единство апперцепции есть то единство, благодаря которому всё данное в созерцании многообразное объединяется в понятие об объекте. Поэтому оно называется объективным, и его следует отличать от субъективного единства сознания, представляющего собой определение внутреннего чувства, посредством которого упомянутое многообразное в созерцании эмпирически дается для такой связи» [207, с. 104]. Разворачивается и реализуется это единство с помощью рассудка и разума. «Если рассудок есть способность создавать единство явлений посредством правил, то разум есть способность создавать единство правил рассудка по принципам» [207, с. 220].
Гегель подчеркивает: «поскольку философия, конечно, всегда имеет дело с единством, хотя и не с абстрактным единством, не с простым тождеством и пустым абсолютом, но с конкретным единством (с понятием) и на всем своем протяжении только им и занята, то каждая ступень в ее продвижении вперед есть своеобразное определение этого конкретного единства и наиболее глубокое и последнее из определений единства есть определение абсолютного духа» [122, т. 3, с. 403]. По поводу трактовки единого разворачивалась полемика и между Фихте и Шеллингом: Фихте принимает в качестве основополагающего Я, определяющее и само Я (индивидуальное и абсолютное) и не-Я, Шеллинг же утверждает абсолютное тождество субъекта и объекта (вплоть до их полной неразличимости).
Категория единства также занимает определенное положение в концептуальных системах Канта и Гегеля. Но если у Канта единство, множественность и целокупность, которая есть «множество, рассматриваемое как единство» [207, с. 178], относится к группе категорий количества, то у Гегеля «для-себя-бытие»[44 - «Для-себя-бытие как отношение с самим собой есть непосредственность, а как отношение отрицательного с самим собой оно есть для-себя-сущее, единое, одно (das Eins) – то, что в самом себе не имеет различий и, следовательно, исключает другое из себя» [122, т. 1, с. 236].], порождающее переход от единого к многому, находится в сфере действия понятия качества. Но вместе с тем принимаемый Гегелем диалектический принцип единства противоположностей становится определяющим для устройства его системы и жестко противопоставляется им всей предшествующей метафизике. «Догматизм рассудочной метафизики состоит в том, что односторонние определения мысли удерживаются в их изолированности, тогда как идеализм спекулятивной философии обладает принципом тотальности и выходит за пределы односторонности абстрактных определений рассудка. Так, например, идеализм утверждает: душа не есть только конечное или только бесконечное, но она по существу есть как то, так и другое и, следовательно, не есть ни то, ни другое, т. е. такие определения в их изолированности не имеют силы, но получают ее лишь как снятые» [122, т. 1, с. 139].
Всеединство становится ключевой проблемой русской философской и религиозной мысли на рубеже XIX–XX веков [ср. 193, т. 2, с. 379–457]. У Владимира Соловьева в качестве высшего принципа положительное Всеединство предстает как «цельное знание» [420] (гносеологический аспект), синтез опытной науки, философии и богословия, целью которого является познание Абсолютного, Сверхсущего (онтологический аспект), причем конечной целью мирового развития выступает становление богочеловечества [421], осуществляющего единение Бога и внебожественного мира. Дальнейшее разворачивание концепция всеединства получает в размышлениях Л.П.Карсавина [214], С.Л.Франка [473], Е.Н.Трубецкого [452], П.А.Флоренского [470], Н.О.Лосского [281], С.Н.Булгакова [63; 64], особенно в ракурсе разработки софиологии – учения о Софии как личностном начале, божественной премудрости, душе мира, воплощающей его единство. Хоружий предлагает такую общую характеристику: «всеединство есть категория онтологии, обозначающая принцип внутренней формы совершенного единства множества, согласно которому все элементы такого множества тождественны между собою и тождественны целому, но в то же время не сливаются в неразличимое и сплошное единство, а образуют особый полифонический строй, “трансрациональное единство раздельности и взаимопроникновения”, как сформулировал С. Л. Франк[45 - «Трансрациональное единство единства и двойственности, тождества и различия, слитности и раздельности как особый высший принцип» [473, с. 315–316].]. Но это описание, включающее формально противоречивый тезис о тождестве части целому, не есть законченная дефиниция. Более того, такой дефиниции и не может быть, поскольку всеединство – категория особого рода, не допускающая исчерпывающего дискурсивного выражения, а имеющая скорей характер интуитивно-символического указания на некий специфический способ или строй бытия, который никогда не удается раскрыть до конца в понятиях» [504, с. XVIII–XIX].
Владимир Соловьев обращает внимание на «полярные и соотносительные» определения, особенно выделяя «единое и многое. То же или само как такое есть одно, в различении же или положении другого тем самым полагается множественность; другими словами, различаясь или полагая себя как другое, оно размножается, следовательно, единство их есть единство одного и многого. Так как различаться может только многое (ибо и одно, различаясь, тем самым становится многим, или размножается, не переставая быть единым в силу общего закона всякой деятельности и совмещая в себе таким образом субстанциональное единство с феноменальной множественностью), а, с другой стороны, множественность может быть только при различении многих (в силу закона identitatis indiscernibilium[46 - Тождества неразличимых (лат.), введенного Лейбницем.]), то эти два определения являются лишь двумя выражениями или двумя субъективными сторонами одного и того же понятия» [420, с. 274]. Здесь тоже отчетливо заметно стремление к такому единству, которое преодолевает противоположность единого и многого.
Принципиальный недостаток и даже трагедию философии Сергей Булгаков видит в ее односторонности, причиной которого считает «дух системы и пафос системы, а система есть не что иное как сведение многого и всего к одному и, обратно, выведение этого всего или многого из одного… Логический монизм, являющейся естественной потребностью разума – ratio – и уже подразумевающий возможность адекватного, непротиворечивого миропознания, составляет неустранимую черту всякой философской системы, которая смутно или отчетливо, инстинктивно или сознательно, робко или воинствующе притязает быть абсолютной философией и свой эскиз бытия рассматривает как систему мира» [64, с. 312–313]. Критикуя прежде всего панлогизм, Булгаков отмечает, что философ «восхотел системы: другими словами, он захотел создать (логически) мир из себя, из своего собственного принципа – “будете как боги” – но эта логическая дедукция мира невозможна для человека. И прежде всего по причинам вне человеческой воли и способностей разума лежащим: мир неразумен в таком смысле, в каком хочет его постигать “дедуцирующая” философия, философская система как таковая, классическое и предельное выражение имеющая в Гегеле» [64, с. 314]. Булгаков предлагает предпочесть системосозиданию усмотрение «органической сочленен-ности, симфонической связанности» [63, с. 4], которое становится возможным как раз благодаря софийности мира. Ибо «в Софии нет никакого не, а есть только да всему, нет небытия, которое есть грань обособляющегося, своенравного, индивидуального бытия, разрывающего положительное всеединство… Она есть единое-многое – все, одно да без нет, утверждение без отрицания, свет без тьмы, есть то, чего нет в бытии, значит, и есть, и не есть, одной стороной бытию причастна, а другой ему трансцендентна, от него ускользает. Занимая место между Богом и миром, София пребывает и между бытием и сверхбытием, не будучи ни тем, ни другим или же являясь обоими зараз» [63, с. 188]. Однако, парадоксальным образом Булгаков тут почти буквально повторяет диалектические формулы Гегеля, совмещая их, правда, с принципом Николая Кузанского, исключающим возможность чего-либо противоположного единому.
Бибихин тоже критикует учение о всеединстве русской философии Серебряного века: «Нужной ясности катастрофически не хватает так называемому “всеединству”. Этим словом как будто бы должна описываться связь частей мира с целым. “Первоединое существует везде, ибо каждый стакан, каждая чашка. есть какая-то единица. Большая единица. наверху дана в цельном виде, а отдельных вещах лишь отчасти” [270, с. 698]. Но единичность чашки или разделяет непостижимость первоединства, или ничего не говорит о нем. В первом случае мы перестаем знать, что такое “все”, если оно состоит из непостижимых единств; во втором случае “все” оказывается таким же условным названием неименуемого Начала, как и “единство”. Сказать ли “все”, “единство”, “всеединство” или “ничто”, разницы нет. Учение о всеединстве опирается не на онтологию, здесь у него опоры нет, а на богословие, а именно на веру в то, что Бог должен был каким-то образом позаботится о мире и не покидать его. “Всеединство” получает таким путем религиозный смысл, но как философское понятие остается, как к нему ни подойти, проблемой» [50, с. 281–282]. Иными словами, проблема единства не может быть решена и с помощью концепта всеединства, поскольку он не представляет способа объединения различных компонентов.
Для Гуссерля в контексте разрабатываемой им феноменологической программы единство не столько обнаруживается, сколько конституируется. «.Всё поистине объединяющее – это отношения фундирования. Следовательно, и единство самостоятельных предметов достигается только посредством фундирования. Поскольку они, будучи самостоятельными, не фундированы друг в друге, им остается лишь следующее: они сами, причем все вместе, фундируют новые содержания, которые именно из-за этого положения дел называются – по отношению к фундирующим “членам” – содержаниями, создающими единство. Но единством обладают и содержания, фундированные друг в друге, будь то взаимно или односторонне, и это единство гораздо более цельное (innig), поскольку оно в меньшей степени опосредствовано. “Цельность” [такого единства] определяется тем, что оно устанавливается не на основе какого-либо нового содержания, которое опять-таки устанавливает единство только в силу того, что оно фундировано сразу во многих обособленных друг от друга членах. Если такое содержание называть “единством”, тогда действительно единство есть “реальный предикат”, “позитивное”, “реальное” содержание, и в этом смысле другие типы целого единством не обладают. Тогда мы даже не вправе сказать, что особый момент единства един с каждым из соединенных членов. Но если мы не согласны принять такую путаную терминологию, которая на практике ведет к эквивокации, то должны будем говорить о единстве и целом в той мере, в какой простирается единообразное фундирование. Тогда о каждой совокупности содержаний, объединенной таким образом, мы можем сказать, что она обладает единством, хотя отнесенный к этой совокупности предикат вовсе не “реальный” предикат, как если бы где-то в этом целом можно было выделить компонент “единство”. Единство есть как раз категориальный предикат» [148, с. 261]. Примечательно, что в пределе единство конституируется применительно ко всему в целом. «Реально (как воспринимаемое в некоторой возможной чувственности) не существует ничего, кроме совокупности (Inbegriff) фрагментов целого и чувственных форм единства, коренящихся в совместности этих фрагментов. Но то, что дает единство моментам в пределах фрагментов, а также объединяет моменты единства и фрагменты – и есть фундирование в смысле нашего определения» [148, с. 262]. Иными словами, единство распространяется на всеохватывающее целое, которое и будет миром.
Таким образом, историческая ретроспектива эволюции осмысления проблемы единства в философии демонстрирует не только ее непреходящую значимость, но и отчетливую тенденцию распространять понимание единства максимально широко – в пределе на весь мир в целом. Кроме того, заметен переход от античного единого, которое чуть ли не отождествлялось с бытием, к нововременному единству, которое уже начинает трактоваться всё более как конституирующее и фундирующее. Причем уже у древних греков единство оказывается не только чем-то, противопоставленным множественному, но и некоторым принципом объединения – объединения как множественного самого по себе, так и одновременно и множественного, и единого в целостной мысли.
§ 2. От мира к единству
Если о единстве, хотя и пользуясь гипостазирующим термином «единое», заговорили еще греки, то более или менее отчетливое представление о мире в целом появляется сравнительно поздно, только в Новое время – кстати, сам термин «мир» (Welt) [635; 636] входит в философский обиход практически одновременно с термином «единство» и тоже благодаря Лейбницу и Вольфу. У греков речь шла или о космосе[47 - «В сущности, идея космоса – это не идея, а целое миропонимание. Это представление о мире как об упорядоченной и завершенной в себе структуре, отнюдь не сводящейся к простой сумме отдельных элементов – Неба, Земли, Солнца, Луны и прочих компонентов Вселенной, а образующей некое целостное единство, подобное органическому единству живого существа» [380, с. 115].] [271; 591], который в качестве порядка противостоял хаосу; или об зоне как веке, эпохе или даже вечности [519]; или же об ойкумене[48 - Эволюция образа ойкумены в эллинистически-римскую эпоху подробно прослежена у Рожанского [379].] как совокупности обитаемых земель [181]. Тем самым, можно сказать, для слова «мир» практически воспроизводился некоторым образом спектр побочных значений (если главным и основным в современном понимании считать всё же значение ‘мир в целом’) – в том переносном смысле, в каком называют миром также отдельные, более или менее самостоятельные и относительно автономные области или сферы мира (когда говорят, например: «мир культуры» или «мир животных», «мир античности» или «мир средневековья», «внутренний мир» или «внешний мир» и т. д., и т. п.).
Однако в современных переводах античных текстов эти значения, как правило, не различаются, в результате чего нередко оказывается, что мир и его части перепутаны, – особенно наглядно это заметно при обсуждении проблемы «множественности миров». Рассмотрим один весьма наглядный пример: «Вот что говорит о космологии Левкиппа Диоген [Лаэртский]: “Мнение его было, что Вселенная (?? ?????) беспредельна (??????, infinito di numеro. – Альфиери), что всё в ней переменяется одно в другое, что она (?? ?? ???[49 - Взаимозаменяемость терминов та navra и то n?v заслуживает внимания. Кершен-штейнер подчеркивает, что первый из данных терминов обозначает атомы, а второй – совокупность атомов и пустоты [591, с. 156, прим. 3].]) есть пустота и полнота (…пустое и наполненное телами. – Лурье). Миры (???????;) возникают тогда, когда тела. впадают в пустоту и прилегают друг к другу…”» [82, с. 6]. Уже из одной этой цитаты, в которую ключевые термины вписаны В.П.Визгиным по-древнегречески, видно, что «космос» отождествлен с «миром», а некоторое так или иначе трактуемое «все» – со «Вселенной», которая в современном терминологическом словоупотреблении обозначает прежде всего максимально широкую физическую систему[50 - «Материальный мир, рассматриваемый с физико-астрономической точки зрения (А.Л.Зельманов)» [204, с. 460].] [ср. 101]. Конечно, когда речь идет, скажем, о Пармениде, Платоне или Аристотеле, никаких принципиальных трудностей с подобными отождествлениями не возникает, поскольку те сами вполне последовательно и эксплицитно (в тех или иных версиях) считали космос (по сравнению с хаосом) единственно достойным рассмотрения, соответствующим логосу, полным и совершенным, то есть единым и единственным. Но уже в концепции атомистов, например, ситуация совершенно иная.
Проблема тут не в том, что значения одних и тех же слов со временем изменяются; и даже не в том, что космос – это не весь мир, а вселенная – это не всё в мире[51 - «Может быть, мир это и есть вселенная?…Мы невольно отшатываемся от такого определения, нам делается не по себе, мы ощущаем неуют, если наш мир вселенная: оказываемся без крыши над головой на крошечной планете в недрах бескрайнего пространства, где кроме обитаемого нами небесного тела еще несчетное множество солнц.» [48, с. 6].], а в том, что происходит с концептуализациями, когда приходится признать то, что раньше считалось всем миром в целом, только одной небольшой частичкой его. Подобно тому как парменидовский монолит бытия, исчерпывающий и заполняющей всё в мире, мультиплицируется атомистами и превращается в один-единственный атом[52 - Показательно, кстати, что концептуальные трудности возникают как правило из (метафизического) полагания жестких, последних и окончательных (так сказать, предельных) пределов: если считать атом буквально и абсолютно неделимым элементом, тогда распад атома – как разделение неделимого – рискует (п)оказаться распадом теории, чуть ли не мировоззренческой катастрофой [см. 195].], бесконечное множество которых движется в пустоте, так же и наблюдаемый порядок космоса трактуется ими как один из бесконечно многих. И если не отождествлять (некритически) весь мир с одним-единственным (пусть даже нашим) космосом, а единство – с парменидовской монолитностью, то не возникает трудностей даже и с единственностью мира: ведь несмотря ни на что пустота атомистов остается в уникальном единственном числе, не говоря уже о вселенной (?? ?????). Аналогичная ситуация возникла в конце XX века при создании теории раздувающейся Вселенной [267] и построении инфляционной космологии [268], когда Метагалактика (вся астрономически наблюдаемая область мира), считавшаяся ранее всей Вселенной, стала одним из почти бесконечного множества пузырьков пенящегося вакуума, и возник вопрос о назывании всего этого многообразия. «Тотальность этих вселенных И.С.Шкловский предложил назвать “Метавселенной”» [204, с. 461], а А.Д.Линде – «Мультимиром (multiverse)» [265][53 - Мультивселенная (multiverse, meta-universe) – термин, восходящий к Уильяму Джеймсу и противопоставляемый uni-versumy.], хотя позднее говорил уже просто о многоликой Вселенной, в которой есть «много возможностей» [266]. То есть, иными словами, если не продолжать цепляться за традиционное, исторически конкретно определенное и, тем самым, неизбежно ограниченное понимание, то «Вселенная» вполне может продолжать служить в космологии для называния максимальной из описанных и осмысленных физически систем (в которой будет множество даже сравнительно небольших вселенных/метагалактик), а «мир» в философии – для обозначения концептуально схваченного комплекса всего в целом, каким бы образом или способом оно не трактовалось.
Симптоматично, кстати, что такой сторонник концепции «множественности миров» как В.П.Визгин, который специально подчеркивает при обсуждении учения Демокрита, что у того принципиально отсутствует единый онтологический «порядок-структура» [82, с. 17], тем не менее полагает необходимым найти в его учении фокусирующий центр: «только после того как такой фокус-центр найден, историк может критически относится к свидетельствам и интерпретациям. Только после того как мы убедимся на всем массиве данных в том, что Демокриту действительно присуща удивительная ясность и последовательность, образующие то, что можно назвать строго научным духом, только после этого мы можем отвергать те интерпретации или даже доксографические утверждения, которые идут в разрез с такой гипотезой о “духе” или “стиле” мышления Демокрита» [82, с. 32]. И ниже отмечает, что «через структуру текста, через закон его построения мы можем раскрыть структуру мышления… Формально – это структура представления максимального разнообразия, а содержательно – это мышление, конструирующее максимум возможного разнообразия сущего, мыслимого реально осуществленным на бесконечном множестве миров» [82, с. 45]. Так что, несмотря ни на что, у Демокрита «всё необозримое актуально данное беспредельное множество миров предстает, несмотря на свою бесконечность, хорошо уравновешенным и упорядоченным целым, причем принципом упорядоченности выступает изономия, закон компенсации, начало справедливости, взятое в его космологической проекции» [82, с. 39].
Иными словами: «У атомистов порядок существует и в рамках большой Вселенной, но это – глубоко скрытый порядок ее внутреннего самоупорядочивания законами симметрии» [82, с. 45]. Тем самым даже Визгин признает, что Демокрит всё множество миров охватывает одной-единственной упорядочивающей концепцией, фиксирующей разнообразие компонентов одной-единственной вселенной.
В иудео-христианской мировоззренческой традиции мир считался сотворенным Богом. Однако Трубецкой замечает, «что самое учение о сотворении мира единым Ягве, несмотря на всю свою древность, имеет лишь весьма второстепенное значение до пленения Вавилонского. Лишь со времени Второисайи оно выдвигается на первый план[54 - Ср. [576, с. 156–163]. Следует заметить, что в В. З. не существует слова для обозначения “мира”. В Еккл. III, 11 слово “олам” (?lam) означает вечность, а не мир. “Век сей” в мессианических чаяниях Израиля противополагается “будущему веку”, и понятие мира (космоса) постепенно отожествляется с первоначальным понятием века – эона.]. Сказания о сотворении мира, о победе Божества над древним хаосом, над страшным змеем бездны, над пустыней и водами, скованными Его всемогущим словом, – восходят к самой седой старине: они древнее Моисея, отчасти древнее самого Израиля» [453, с. 259]. Благодаря Новому Завету с его апокалиптически-эсхатологическими настроениями подобные трактовки мира прежде всего как чего-то временного усиливаются, дополняясь уже только в схоластике также и пространственными его определенностями, причем и в том, и в другом случае (тварный) мир воспринимался как что-то низменное, греховное, из-за чего от него необходимо отрешиться, дабы приблизиться к Богу.
Николай Кузанский полагает соответствие микрокосма макрокосму как совпадение абсолютного максимума с абсолютным минимумом [343], взаимосогласованность компонентов мира: «человек есть малый мир таким образом, что он же и часть большого. Так или иначе, целое светится во всех своих частях, раз часть есть часть целого… Равным образом отблеск всего универсума есть на каждой его части, потому что всё стоит в своем отношении и в своей пропорции к целому;.и в таком разнообразном множестве бесчисленных малых текучих, сменяющихся друг другом миров устойчивое единство большого универсума развертывается с наибольшим возможным совершенством» [342, с. 271]. Показательно, что утверждение бесконечного множества частных миров никоим образом не мешает Кузанцу отчетливо понимать единство большого мира-универсума и формулировать соответствующие положения, совсем не путаясь в терминологии и концептуальных развертках. «В отношении других звездных областей мы равным образом подозреваем, что ни одна из них не лишена обитателей и у единой Вселенной, по-видимому, столько отдельных мировых частей, сколько звезд, которым нет числа; то есть единый вселенский мир… конкретизован в стольких частных мирах, что у них нет числа» [343, с. 138]. Причем Койре подчеркивает, что вдобавок «Николай Кузанский пошел еще дальше. На основании вывода. об относительности восприятия пространства (направления) и движения, он утверждает: допустив, что образ мира, сформировавшийся у наблюдателя, определяется тем местом, которое он занимает во вселенной, и что никакое из этих мест не может претендовать на абсолютно привилегированное положение (например, в качестве центра Вселенной), мы должны также допустить возможность существования различных и эквивалентных образов мира, допустить относительный характер – в полном смысле этого слова – каждого из этих образов, а также признать невозможность формирования некоего окончательного объективного и абсолютного образа вселенной» [223, с. 10–11].
И Майстер Экхарт полагает мир единым. «Как это ни покажется странным, но главным предметом размышлений Иоанна Экхарта – одного из самых пронзительных мистиков Средневековья – является не Бог, а мир. Бог же постольку, поскольку он представляет собой центральное структурообразующее звено образа мира. Мир трактуется Мастером как единое целое: “Из Единого, каковое пребывает единообразным в себе, непосредственно проистекает только единое. Но такое единое есть мироздание в целом, которое происходит от Бога и остается единым, несмотря на многообразие частей”» [376, с. 30; ср. 507].
И даже Джордано Бруно, утверждая бесконечную множественность отдельных миров, признает единство универсума. «О мире как системе в философии Бруно говорит и Синджер: “Бруно использует слово universo для обозначения бесконечной вселенной. Его слово mondo повсюду передается как «мир». Бруно использует mondo не только для нашего земного шара, но и для вселенной как она охватывается нашими чувствами и как ее понимают аристотелики. Так он говорит о нашем мире (questo mondo), включающем звезды, которые мы видим, занимающем наше пространство и замкнутым небесным сводом. Этот мир вместе с другими бесчисленными мирами, т. е. вместе с другими системами небесных тел, причем каждая такая система занимает свое собственное пространство, образует для Бруно единую бесконечную вселенную (universo)” [623, с. 231, прим. 2]. У Птолемея и Аристотеля эта система организована на основе геоцентрического принципа, у Коперника – на основе гелиоцентризма, но суть при этом остается той же самой… и поэтому не так уж важно, как истолковывать мир: как небесное тело вообще, как “звезду” или же как всю систему видимых нами небесных тел, включая в нее и сами неподвижные звезды. В любом случае вселенная будет бесконечной и миров – любых – будет бесчисленное множество» [82, с. 144–145]. Тут можно заметить не только большую терминологическую гибкость, но и некоторую конкретизацию понимания разнообразия как возможности различных по своему устройству систем, а также как возможности различных способов понимания мира.
Для мыслителей Нового времени, философов-просветителей мир обретает особое значение. И дело не только в общей тенденции возврата к миру (миру «этому» от мира «иного») в контексте широкого процесса секуляризации, но и в понимании философии прежде всего как «мудрости мира» (Weltweisheit), философии для мира или философии мира [см. 618]. Во введении ко второму изданию «Критики чистого разума» Кант называет так свою трансцендентальную философию [206, с. 82][55 - Что в русском переводе передано, правда, как просто «наука» [206, с. 83].]. Кроме того, противопоставление субъекта и объекта порождает и соответствующий взгляд на мир – мировоззрение (Weltanschauung) [см. 627]. Именно из немецкого языка это слово было скалькировано на русский [459, т. 2, с. 626], английский и французский языки, а впервые употреблено Кантом в «Критике способности суждения» [205, с. 278][56 - Что в русском переводе передано, правда, как «созерцание мира» [205, с. 279].]. Поэтому формируется и соответствующая картина мира (Weltbild) [628]. «Определяющее для существа Нового времени скрещивание обоих процессов, превращения мира в картину и человека в субъект, заодно бросает свет и на, казалось бы, чуть ли не абсурдный, но коренной процесс новоевропейской истории; чем шире и радикальнее человек распоряжается покоренным миром, чем объективнее становится объект, чем субъективнее, т. е. наступательнее выдвигает себя субъект, тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращаются в науку о человеке, в антропологию. Так или иначе, появление слова “мировоззрение” как обозначения позиции человека посреди сущего свидетельствует о том, как решительно мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета» [488, с. 51].
Согласно Канту, мир «обозначает математическое целое всех явлений и целокупность их синтеза как в большом, так и в малом, т. е. в продвижении синтеза как путем сложения, так и путем деления. Но тот же самый мир называется природой, поскольку мы рассматриваем его как динамическое целое и имеем в виду не агрегат в пространстве или времени, чтобы осуществить его как величину, а единство в существовании явлений» [207, с. 263–264]. Попытка мыслить мир (как целое) в качестве данного в опыте приводит к антиномиям, ведь, подчеркивает Кант, «я имею мироздание всегда только в понятии, но никоим образом не (как целое) в созерцании» [207, с. 320]. Поэтому мир должен рассматриваться как некоторая регулятивная идея, с помощью которой разум приходит в согласие с самим собой и также согласует применение рассудка «благодаря тому, что оно в как можно большей степени приводится в связь с принципом полного единства и выводится из него» [207, с. 398].
Шопенгауэр выносит основной постулат своей концепции в заголовок важнейшего своего произведения «Мир как воля и представление» [525; 526], отмечая при этом: «Система мыслей всегда должна иметь архитектоническую связь, т. е. такую, где одна часть постоянно поддерживает другую, но не поддерживается ею, где краеугольный камень поддерживает все части, но не поддерживается ими, а вершина поддерживается всеми, не поддерживая ничего. Напротив, единственная мысль, сколь бы она ни была всеохватывающа, должна сохранять полное единство» [525, с. 125].
У Маркса мир понимается прежде всего как исторический и социальный. Последний и, наверное, самый известный из «Тезисов о Фейербахе» гласит: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [309, с. 4]. А предпоследняя фраза написанного вместе с Энгельсом «Манифеста Коммунистической партии», располагающаяся перед заключительным призывом-лозунгом и после констатации, что пролетариям в революции нечего «терять кроме своих цепей», предрекает: «Приобретут же они весь мир» [310, с. 459]. Согласно Энгельсу, «действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания» [536, с. 43].
Ницше же делает акцент прежде всего на внутреннем мире. «И как может великий продуктивный ум долго выдержать среди народа, который не уверен больше в единстве своего внутреннего мира и который распался на две половины: на образованных с искаженным и запутанным внутренним миром и на необразованных с недоступным внутренним миром!» [347, с. 184]. И при этом отмечает: «то единство, к которому мы стремимся, и стремимся с большей страстностью, чем к политическому объединению, есть немецкое единство, единство немецкого духа и жизни, основанное на устранении противоположности между формой и содержанием, внутренним миром и условностью» [347, с. 185]. Но вместе с тем относится достаточно критически к неадекватной акцентуации термина «мир»: «Личность и мировой процесс! Мировой процесс и личность земной блохи! Когда же мы наконец устанем вечно повторять эту гиперболу из гипербол, твердить это выражение: “Мир, мир, мир”, в то время как по совести каждый из нас должен был бы лишь повторять: “Человек, человек, человек!”» [347, с. 213].
Джеймс провозглашает принципиальный плюрализм. Поскольку, согласно его концепции, познавать и действовать может только отдельный единичный человек, конкретный индивид, причем только в мире собственного относительного опыта, то и мировоззрений, и истин может быть много. Плюралистическая Вселенная Джеймса незамкнута и незакономерна, это великий цветущий и жужжащий беспорядок, где случай постоянно порождает новое. Многообразие мира делает его податливым прагматическим и прагматичным человеческим усилиям, а также позволяет создавать множество картин мира соответственно многообразию опыта и «областей бытия» [175, с. 409], ибо не существует такой точки, из которой можно было бы охватить весь универсум таким образом, чтобы выразить его в одной-единственной мировоззренческой системе [см. 174]. Однако, тем самым всё же предполагается, что универсум один и вдобавок единственный. «Мир есть единое постольку, поскольку части его соединены между собой какой-нибудь определенной формой связи. Мир есть многое постольку, поскольку мы не в состоянии указать какой-нибудь определенной формы связи. и наконец, он становится всё более и более объединенным благодаря тем системам связей, которые одна за другой создает человеческая энергия» [173, с. 267].
Для Риккерта мир, причем в его единстве, несомненно, важнейшая проблема философии. «Что мировое целое – предмет философии и что она в конечном счете стремится к тому, что мы называем малозначащим, но почти незаменимым словом “мировоззрение”, вряд ли кто решится оспаривать… Тот, кто размышляет о мире, противополагает себя ему. Но кроме того, под миром можно понимать весь мир в его целом, обнимающем все, т. е. и меня, и мир в узком смысле, и философия имеет в виду именно это второе, более широкое понятие о мире» [377, с. 15]. Тем не менее «ни объективизм, ни субъективизм… не в состоянии разрешить проблемы мировоззрения. Они оба не выходят из рамок действительного бытия, но как бы широко мы ни мыслили бытие, оно всё же только часть мира. Лишь совокупность бытия и ценностей составляет вместе то, что заслуживает имени мира» [377, с. 22]. Тем самым Риккерт решительно расширяет понимание мира. «Мировая проблема есть проблема взаимного отношения обеих этих частей и их возможного единства» [377, с. 24].
Дильтей полагал, что «от группы наук о природе, где познание обращено на законы природы, отлична другая группа наук из числа тех, которые описывают мир как нечто уникальное на каждом отдельном его уровне, фиксируют его эволюцию во времени» [178, с. 136], из-за чего «возникает исторический мир как их единый предмет и историческое сознание как единое к нему отношение» [178, с. 151]. Именно «в науках о духе осуществляется построение исторического мира. Этим образным выражением я обозначаю ту идеальную взаимосвязь, где имеет свое бытие объективное знание об историческом мире, которое последовательно расширяет свою сферу, основываясь на переживании и понимании» [178, с. 133]. В конечном результате «завершением всех отношений, заключенных в пережитом или представленном в созерцании, было бы понятие мира. В нем содержится требование выразить всё переживаемое и созерцаемое посредством взаимосвязи со держащихся в нем фактических отношений» [178, с. 174]. То есть исторический мир формируется как цельный и единый из уникальных событий посредством их взаимосвязи, что описывается понимающими науками о духе как непрерывная эволюция во времени.
Рассел предложил концепцию логического атомизма, согласно которой (атомарные) «факты суть нечто такое, что вы выражаете посредством предложения, и они в такой же степени, как и отдельные стулья и столы, являются частью реального мира» [374, с. 9]. Витгенштейн, однако, в первом же положении своего «Логико-философского трактата» утверждает: «Мир – это все, чему случается быть» [94, с. 18][57 - Бибихин поясняет: «Der Fall означает буквально падение, например выпадение игрального куба одной из его сторон. Мир в этом смысле такой, каким ему случилось быть. Он кроме того есть всё то, что выпало. Die Welt ist allеs, was der Fall ist. “Мир есть всё, что выпало.”» [45, с. 122, 123]. Ср. в других переводах: «Мир есть всё то, что имеет место» [95, с. 36]; «Мир есть все, что происходит» [93, с. 5].], поясняя тут же: «Мир – совокупность Фактов, но не Вещей» [94, с. 20]. А поскольку «логической Картиной Фактов является Мысль» [94, с. 53], постольку «совокупностью всех истинных Мыслей является Картина Мира» [94, с. 54], причем «Знак, при помощи которого мы проявляем Мысль, я называю Пропозициональным знаком. И Пропозиция это Пропозициональный Знак в его проективном отношении к Миру» [94, с. 58]. Важно, что «Трактат», собственно говоря, трактует прежде всего мир, открывая путь разработке онтологии события, вдобавок выстраивая картину мира как проективную. Но, кроме того, Витгенштейн отмечает: «границы моего языка означают границы моего мира» [93, с. 56; 95, с. 174], – и эти границы невозможно рассмотреть снаружи, поскольку у мира нет изнанки.[58 - Руднев дает такой комментарий: «Это понимание – единственное, которое есть. Я знаю это не потому, что я рассмотрел другие Возможности и отверг их. Скорее, я знаю это в точности потому, что это показывает себя в том, что не существует других Возможностей. Ибо нет языка кроме языка, и поэтому нет другого понимания Мира, чем то, которое нам дает язык» [94, с. 182].]
В контексте разворачивания феноменологической программы Гуссерль рассматривал мир прежде всего как неустранимый горизонт и подчеркивал, что «всякая редукция осуществляется универсально в отношении всего мира [ist welt-universal]» [146, с. 332], ибо «каждая мировая данность есть данность с учетом того, “как” ее дает тот или иной горизонт, что в горизонтах имплицированы дальнейшие горизонты и, наконец, все, что дано в мире, влечет за собой мировой горизонт и только в силу этого осознается как принадлежащее миру» [146, с. 347–348]. При этом «мир существует [ist seiend] не как нечто сущее [ein Seiendes], не как объект, но существует в единичности, для которой множественное число не имеет смысла. Каждое множественное и выделяемое из него единственное предполагает мировой горизонт» [146, с. 194]. Так что «все наши теоретические и практические темы всегда лежат в нормальном единстве жизненного горизонта “мир”. Мир есть универсальное поле, в которое устремлены все наши акты: опытные, познавательные, деятельные» [146, с. 195]. И «в силу этой постоянно наличествующей текучей горизонтности [Horizonthaftigkeit] каждая значимость, напрямую осуществляемая в естественной жизни мира, всегда уже предполагает другие значимости, непосредственно или опосредованно обращается к необходимой подоснове темных, но время от времени доступных нам, реактивируемых значимостей, которые в своей совокупности, а также вместе с соответствующими им актами составляют единственную неразрывную жизненную взаимосвязь» [146, с. 202]. Ценность мира задает его в качестве почвы и цели: «Мир – это открытый универсум, горизонт “пределов” [Termini], универсальное поле сущего, которое предполагается во всякой практике и вновь и вновь обогащается ее результатами. Поэтому мир есть совокупность всего, что допускает само собой разумеющееся подтверждение, он возникает и присутствует “тут” из нацеливания [Abzielung] и представляет собой почву для всё нового нацеливания на сущее» [146, с. 337].
В одной из рукописей Гуссерль замечает: «Представление мира – не просто одно среди моих представлений. Оно есть универсальное движение и синтез в движении всех моих представлений – такого рода, что всё ими представленное сходится к единству мира как взаимодействующее, коррелят постоянно становящегося ставшим единства всех моих представлений» [Цит. по: 556, S. 87]. Непосредственно мир дан нам как жизненный мир. «Жизненный мир – мир нашего повседневного опыта, не отягощенного еще никакими научными знаниями. Это – сфера первоначальных допредикативных очевидностей, конституируемых в деятельности чистой трансцендентальной субъективности. Как таковой, он не осознается нами непосредственно и сохраняет статус полной анонимности» [403, с. 58]. Индивидуальный и уникальный в своих проявлениях, жизненный мир тем не менее не исключает, а предполагает единство мира, ибо «каждый из нас имеет свой жизненный мир, который мыслится как мир для всех. У каждого он наделен смыслом полюсного единства миров, мыслимых в соотнесенности с субъектами, миров, которые в ходе корректировки превращаются всего лишь в явления этого [der] мира, жизненного мира для всех, этого постоянно удерживающегося интенционального единства, которое само есть универсум отдельного, универсум вещей» [146, с. 336]. Поэтому «жизненный мир – изначальное лоно всякой проблематики и рефлексии, некий маточный раствор, обусловливающий кристаллизацию всех без исключения наук и философских учений» [403, с. 60].
Мерло-Понти, продолжая и развивая программу феноменологии, подчеркивает: «От кантовского отношения к возможному объекту интенциональность отличается тем, что единство мира еще до того, как быть положенным в познании и в намеренном акте идентификации, проживается как нечто уже свершенное или уже тут наличествующее» [318, с. 17]. Более того, «Гуссерль различает интенциональность акта, то есть интенциональность наших суждений и волевых позиций, о которой говорилось В “Критике чистого разума”, и интенциональность действующую (fungierende Intentionalit?t), которая создает природное и допредикативное единство мира и нашей жизни, обнаруживает себя в наших желаниях, оценках, пейзаже более явственно, чем в объективном мышлении, и предоставляет тот текст, переводом которого на точный язык стремятся быть наши знания» [318, с. 18]. Поэтому, резюмирует Мерло-Понти, необходимо рассматривать мир как целостность. «Если, размышляя над сущностью субъективности, я нахожу, что она связана с сущностью тела и сущностью мира, это значит, что мое существование в качестве субъективности составляет единое целое с моим существованием в виде тела и с существованием мира и что, в конце концов, субъект, каковым я являюсь, если взять его конкретно, неотделим от этого самого тела и этого самого мира» [318, с. 518].
Хайдеггер в «Бытии и времени» отмечает: «Ни оптическое изображение внутримирного сущего, ни онтологическая интерпретация бытия этого сущего не сталкиваются как таковые с феноменом “мир”. В обоих этих способах подступа к “объективному бытию” мир, а именно различным образом, уже “предполагается”» [484, с. 64]. Для того чтобы «застигнуть» этот феномен, надо поставить вопрос о мирности мира. «“Мирность” онтологическое понятие и подразумевает структуру конститутивного момента бытия-в-мире. Последнее же нам известно как экзистенциальное определение присутствия» [484, с. 64]. В «Основных понятиях метафизики» Хайдеггер уточняет: «К миру относится открытость сущего как такового, сущего как сущего» [582, S. 397], «сущего как такового в целом» [582, S. 409], причем «если мы со смыслом говорим о мире и мирообразовании человека[59 - Человек в отличие от животного мирообразующ (weltbildend) [см. 582, S. 397], то есть образовывает мир, придает миру образ, создает картину мира (Weltbild).], мир в любом случае должен быть так или иначе описан как доступность (Zug?nglichkeit) сущего» [582, S. 412]. Позднее, в «Письме о гуманизме» Хайдеггер трактует мир как открытость бытия: «“Мир” есть просвет бытия, в который человек вступает своим брошенным существом» [491, с. 212]. В «Истоке художественного творения» концепция мира позднего Хайдеггера представлена более развернуто: «Мир не простое скопление наличествующих счетных и несчетных, знакомых и незнакомых вещей. Но мир – это и не воображаемая рамка, добавляемая к сумме всего наличествующего. Мир бытийствует[60 - Буквально: мир мирствует, мир мирится (Welt weltet) [489, с. 142].], и в своем бытийствовании он бытийнее всего того осязаемого и внятного, что мы принимаем за родное себе. Мир никогда не бывает предметом, который стоит перед нами, который мы можем созерцать. Мир есть то непредметное, чему мы подвластны, доколе круговращения рождения и смерти, благословения и проклятия отторгают нас вовнутрь бытия» [489, с. 143].