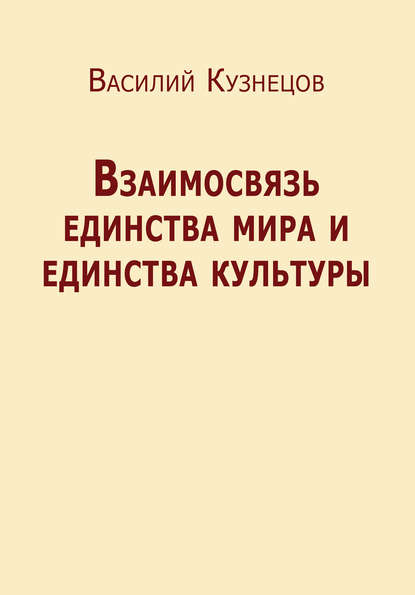По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взаимосвязь единства мира и единства культуры
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И наконец в «Вещи» Хайдеггер приходит к утверждению единства мира: «Земля и небо, божества и смертные, сами собой единые друг с другом, взаимно принадлежат друг другу в односложности единой четверицы. Каждый из четверых по-своему зеркально отражает существо остальных. Каждый при этом по-своему зеркально отражается в свою собственную суть внутри одно-сложности четверых. Эта зеркальность – не отображение какого-то изображения… Осуществляюще-вручающая зеркальность отпускает каждого из четверых на свободу его собственной сути, но привязывает, свободных, к односложности их сущностной взаимопринадлежности… Мы именуем событие зеркальной игры едино-сложенности земли и неба, божеств и смертных миром. Мир истинствует в мирении. Это значит: мирение мира ни объяснить через иное, ни обосновать из иного нельзя. Необъяснимость мирения мира происходит оттого, что такие вещи, как причины и основания, мирению мира несоразмерны. В окружении зеркально-играющего круга четверо льнут к своему единому и всё же у каждого собственному существу. Так льнущие, ладят они, ладно миря, мир. Зеркальная игра мирящего мира как окружение хранящего круга дарит единой четверице ладность, легкость ее подлинного существа. От зеркальной игры хранящего окружения сбывается веществование вещей. Вещь дарит пребывание четверице. Вещью веществится мир. Всякая вещь дает пребыть четверице как пребыванию – здесь и теперь – одно-сложности мира» [486, с. 324325].
Гадамер, выстраивая программу философской герменевтики, предлагает рассматривать мир в его целостности как данный нам прежде всего благодаря языку[61 - «Во всех случаях общность некоего мира – даже если это лишь мир игры – остается предпосылкой “языка”» [108, с. 473].] и усматривает поэтому значение Гумбольдта «в том, что он показал видение языка как видение мира (Sprachansicht als Weltansicht)» [108, с. 512]. При этом разнообразие языков вовсе не отрицает единства мира. «Вместе со свободой человека от окружающего мира полагается также и его свободная языковая способность вообще, а тем самым и основание исторического многообразия, с которым человеческая речь относится к единому миру» [108, с. 514]. Каждый язык предоставляет свою картину мира. «Подобные мировидения относительны не в том смысле, что им можно было бы противопоставить некий “мир в себе”, как если бы существовала некая правильная точка зрения, расположенная вне человечески-языкового мира и позволяющая увидеть мир в его в-себе-бытии» [108, с. 517–518]. Каждый взгляд говорит что-то о мире в целом. «Подобно тому как мы говорим об оттенках восприятия, мы можем говорить и о “языковых оттенках”, которые получает мир в различных языковых мирах» [108, с. 518]. Так что «языковая связанность нашего опыта мира отнюдь не вводит нас в некую перспективу, исключающую все другие перспективы; если мы благодаря взаимодействию с иными языковыми мирами преодолеваем предрассудки и границы нашего прежнего опыта мира, то это ни в коем случае не означает, что мы покидаем и отрицаем наш собственный мир» [108, с. 518]. Наоборот, разнообразие способов восприятия обогащает нашу картину мира. «Мир есть то целое, с которым соотнесен схематизированный языком опыт. Многообразие подобных мировидении вовсе не означает релятивацию “мира”. Скорее то, что есть мир, неотделимо от тех “видов”, в которых он является» [108, с. 518]. В итоге Гадамер приходит к выводу о мире как связующем единстве: «Мир есть, таким образом, общее основание, на которое никто не вступает, которое все признают и которое связывает между собой всех тех, кто разговаривает друг с другом» [108, с. 516].
Ясперс в своей экзистенциальной философии уделяет большое внимание миру в отношении с Я. «Если, таким образом, я говорю “мир”, то я необходимо должен подразумевать два значения (zweierlei), которые при всем разделении остаются всё же связанными друг с другом в силу движения: или мир, как целокупность иного (Welt als Ganze des Anderen), который доступен изучению как единый и общезначимый мир; или же – существование, которое, как бытие-Я, находит себя в своем мире, т. е. в своем He-Я, и которое, как всякий раз определенное целое, есть мир как мой мир» [541, с. 85]. Эти значения взаимосвязаны, а миры оказываются частями друг друга и проецируются друг на друга. «В этой полярности мы трактовали каждый раз одну из сторон как единство и целость (Ganzheit), как будто бы речь шла здесь не о движении в мировом бытии для нас, но как будто бы существовали два мира. Однако ни неподвижное содержание одного из двух миров, ни так же точно и единое и целое не могут удержаться только на одной из двух сторон (Jedoch kann so wenig wie der ruhende Bestand einer der beiden Welten auf einer der beiden Seiten ein Eines und Ganzes sich halten). Мировое бытие не есть ни единая объективная действительность, ни единое субъективное существование» [541, с. 86]. Поскольку мир «объективно расколот на перспективы познания, субъективно – на множественность существования каждого в своем мире» [541, с. 87]. Тем не менее, хотя «я различаю отдельные особенные миры, но в то же время с необходимостью мыслю, как их предпосылку, единый всеобщий мир, в котором все они возможны» [541, с. 91]. Это требует признания множества перспектив восприятия. «Только смена точки зрения релятивирует каждый раз ту, которую занимали прежде, а в конце концов и всякую “точку зрения”. Отрешение от привязанности к точке зрения некоторого особенного мирового существования удается лишь относительно, благодаря универсальной сместимости точек зрения (Standpunktverschieblichkeit), а не абсолютно через достижение некой “точки зрения вне” как единственной и истинной точки зрения» [541, с. 92].
Единство мира Ясперс трактует как регулятивный принцип. «Непосредственное сознание человека и методическая воля исследователя направлены к единству мира… Однако с течением времени все мыслимые единства оказываются единствами в мире, а не единством самого мира. Это последнее, как познанное в единой картине мира как целого, недостижимо. Оно не существует для нас. То, что оно существует в себе, – есть неисполнимое высказывание, абсолютизирующее точку зрения мироориентирующего исследования, поскольку оно мыслит ориентирование в мире завершенным. Но исследование может быть только прервано, оно не может достичь своей воображаемой цели; единство мира истинно для него всякий раз лишь как указатель пути, но не как сущий предмет этого единства» [541, с. 129]. Этот регулятивный принцип воплощается в единстве трансценденции. «Единое не есть единый мир, не есть единая истина для всех, не есть единство того, что связывает всех людей, не есть единый дух, в котором мы понимаем друг друга. Значимость единого в логике и в ориентировании в мире, а затем трансцендирование в этих единствах получает метафизический смысл только из единого, присущего экзистенции» [542, с. 151]. Однако, «единое, высшее и последнее прибежище, может превратиться в экзистенциальную угрозу, если его избирают не из действительности мира во всей полноте напряжения возможной экзистенции» [542, с. 159].
Таким образом, историческая ретроспектива эволюции осмысления проблемы мира в философии демонстрирует не только ее непреходящую значимость, но и отчетливую тенденцию понимать мир, взятый в целом, как некоторое так или иначе трактуемое единство. Причем мир оказывается всеохватывающим горизонтом настолько, что ничего другого просто никогда не будет, – мир, подобно односторонним поверхностям ленты Мебиуса или бутылки Клейна, не имеет никакой подложки или подоплеки, которая уже или еще не содержалась бы в нем самом. Кроме того, заметено смещение к трактовке единства мира как регулятивного принципа, который объемлет всё многообразие относительных точек зрения и картин мира настолько, что способен превозмочь их несовместимость.
Глава 2
Преодоление метафизики как вызов современной философии: от КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЕДИНСТВА МИРА – К ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИМ
Поскольку проекты классической метафизики на протяжении тысячелетий собственного развития не смогли полностью и окончательно выполнить собственную программу (представленную разными конкретными версиями в различных концепциях) и разрешить поставленные перед собой задачи (в частности – дать универсальное решение проблемы единства мира), в современную эпоху начала разворачиваться всё более радикальная и сильная критика самих оснований, предпосылок и базовых установок традиционной философии, включая фундаментальные методологические принципы. Тщательное и подробное рассмотрение соответствующих дискуссий представляется совершенно необходимым для разработки современных средств и способов решения проблемы единства мира – прежде всего в контексте онтологии, поскольку в гносеологии неклассические принципы приживаются все-таки немного легче.
Современная онтология, вынужденная работать в кризисной ситуации перепроизводства смыслов и концептов, парадоксально сочетающейся с практически полным отсутствием радикальных решений традиционных проблем, должна была бы задуматься над тем, как встроить понимание условий возможности собственного воспроизводства в концептуальное осмысление бытия вообще, неизбежно включающего самого мыслителя, – вместо того, чтобы множить и множить различные варианты говорения от имени «самого дела»[62 - По парадигмальной модели Гераклита: «Выслушав не мою, но эту-вот Речь (Ло гос), должно признать: мудрость в том, чтобы знать всё как одно» [472, с. 199].]. Способы философского удушения в концептуальных объятиях не сильно изменились со времен Аристотеля и Гегеля, которые до сих пор выступают (недосягаемым) образцом для всех, кто движение всей предшествующей мысли желает представить в виде (неудачных) подступов к собственной системе. Наверное, стоило бы рассмотреть также возможности, предоставляемые наращиванием рефлексивных этажей концептуализации[63 - Ср.: «Исследователь рефлектирующей системы пытается как бы вывести себя за пределы этой системы и посмотреть на нее со стороны. Назовем такую позицию надрефлексивной» [382, с. 189].], – для выстраивания стратегий постклассической онтологии вообще и для решения проблемы единства мира в частности.
Во всяком случае можно попытаться выявить по крайней мере некоторые механизмы продолжающегося воспроизводства классических схем мышления даже в неклассических по замыслу концепциях, что заодно будет демонстрировать не столько прилипчивую и заразную навязчивость подобных схематизмов, сколько принципиальную трудность выстраивания достойных альтернатив. Весьма показательным в этом смысле оказывается рецепция концепции, например, того же Хайдеггера – его стремление выбраться из раскатанной колеи пресловутой бинарной оппозиции субъекта-объекта, воплотившееся в частности в достаточно последовательном избегании соответствующих терминов, а также и в оригинальной трактовке человека, рассматриваемого как просвет бытия, было истолковано как создание еще одной (оригинальной) версии понимания субъекта. Не то чтобы просвет бытия не занимал в концепции Хайдеггера места, аналогичного месту субъекта в классических концепциях (он как раз и занимает подобное место – в той степени, в какой мы вообще можем тут говорить о подобии); дело в том, что сами принципы построения концепции в данном случае иные – по крайней мере, по исходному замыслу (насколько о нем можно судить)[64 - Если этот момент не принимать во внимание, получится интерпретация в стиле трактовки термодинамики как еще одной версии понимания теплорода.]. На этом примере можно заметить, как традиционная субъект-объектная оппозиция начинает выступать уже совсем не в качестве самой по себе философской концепции или ее компонента, но в качестве некоторой прокрустовой метамодели, под которую жестко подгоняются даже не принимающие такого рода установок, хотя и не сумевшие от них уклониться. Если бы проект создания снимающей подобные противопоставления концепции увенчался бы успехом, вряд ли осмысленным было бы прямое возвращение к прежним установкам. И тот же Хайдеггер, призывавший «мыслить Хайдеггера против Хайдеггера» [493, с. 154], то есть не просто разворачивающий критическую мысль, но и отдающий себе отчет (по крайней мере, на каком-то уровне рефлексии) по поводу соответствующей проблемы, тем не менее предлагает еще один метанарратив – историю забвения бытия. Иными словами, даже понимание указанной трудности не способно само по себе, автоматически предоставить эффективные средства для ее преодоления.
Другой пример, связанный с перформативностью любого высказывания, которая наиболее заметна в случае книги и весомость которой легко оценить: ведь любая коммуникация для того чтобы стать выполненной/осуществленной/воплощенной, должна выполняться/осуществляться/воплощаться посредством определенных – неизбежно вынужденная тавтология – средств. Подобно тому как принцип близкодействия требует наличия определенных полей или частиц-переносчиков взаимодействия для реализации действия силы – если, конечно, мы не готовы принять допущение о существовании мистических взаимодействий или специальных демонов. Так вот, этот пример маркируется именами Деррида и Делёза, которых, может быть и хотелось бы противопоставить как воплощающих соответственно «аналитическую» и «синтетическую» стратегии, если бы было возможно сделать это корректно; однако, это не получится – даже не потому, что в таком случае мы опять попадаем в очередную навязчивую бинарную оппозицию (хотя мы в нее и попадаем), но потому, что подобные характеристики исходят из тех самых жестких классических предпосылок, которые как раз и ставятся под вопрос. Тем не менее, Деррида, который всячески демонстрирует и обыгрывает[65 - Вот, например: «Это (стало быть) не будет книгой» [164, с. 11]. Или: «Текст является текстом только тогда, когда он скрывает от первого взгляда, от первого попавшегося, закон своего построения и правило своей игры» [164, с. 73–74].] перформативность собственного письма, продолжает не замечать властную последовательность дискурсивной машины, долженствующую обеспечить обязательный успех выполняемой работы.[66 - Ср.: «В отличие от Деррида, Платон может не воспринимать “онтологическую проблему” в качестве провала всей системы, ведь – согласно предпосылке деконструкции – такая “проблема”, сам ее факт, говорит в пользу не только некогерентности теории и фальсифицированности метафизики (альтернативы которой всё равно нет), но и указывает на необходимость разработки фальсифицирующих моментов в качестве более “общей” онтологической игры, погружающей в себя ограниченные и заведомо цензурированные логики философских идеальностей» [229, с. 601].] Делёз вместе с Гваттари же, наоборот, на первый взгляд почти хаотичным набрасыванием предложений широкими мазками стремятся воплотить множественное, ризоматичное, некую необязательную сборку линий ускользания, движений стратификации и детерриторизации, скорости и интенсивности, совершенно не обращая внимания на конкретную определенность зафиксированной реализации машины написанного – книги. То есть, они, конечно, подвергают рефлексии свою работу («Мы пишем эту книгу как ризому» [155, с. 39]), но при этом отмечают: «Типографские… творения необходимый… дабы сами могли стать одним из измерений рассматриваемого множества» [155, с. 39–40], а потом признаются: «Сами мы не сумели такое проделать» [155, с. 40]. Можно было бы не верить им на слово, если бы – при всей инновационности и радикальности их концепций и концептов – их текст не продолжал функционировать в режиме экрана, не столько представляющего самого себя, сколько стремящегося стать прозрачным и незаметным, чтобы направить внимание читателя на изображаемое и показываемое.
Стратегическое направление постнеклассической онтологии могло бы постараться в неизбежном продолжении текстуальной работы уйти от классического дескриптивизма и неклассических деклараций к письму, перформативно выполняющему провозглашенное, к дискурсу, своим движением демонстрирующему заявленное. Концепции онтологии события могли бы, наверное, воплотить событие, стать им. Критика метафизики присутствия, однако, не может, конечно, прямолинейным образом представить отсутствующую концепцию отсутствия – и даже не потому, что она (очевидно) отсутствует, а потому, что подобная операция требует манифестировать ее присутствие. Поэтому в таком случае некоторым допустимым решением могло бы стать воссоздание определенного контекста, не просто наглядно, на манер пустой рамы, помечающего значимость отсутствия, но производящего сложный, ускользающий от самого себя жест отсылающего указания – указания на нередукционистскую процедуру преодоления оппозиции присутствия/отсутствия, предполагающую концептуальное пространство за ее пределами.
§ 1. Критика метафизических моделей единства мира и поиски альтернатив
Принятие метафизических предпосылок означает автоматическое решение проблемы единства мира – правда, только весьма жестким и определенным образом. Для реконструкции оснований критики соответствующих моделей необходимо восстановить значимые положения в адекватном контексте.
«Метафизика» – это слово обрело уже очень длинную историю, множество значений и способов употребления. Но, поскольку до сих пор вокруг метафизики разворачиваются такие яростные споры, постольку, наверное, дело не в слове. Если бы дело было в слове, то о слове можно было бы, скорее всего, договориться – в том смысле, в котором можно было бы решить, что данное слово нужно употреблять в каком-нибудь конкретном техническом значении и, соответственно, не употреблять его в каких-то других, не менее конкретных контекстах. Поскольку этого очевидно не произошло, остается признать, что этим словом называют не просто некоторую определенную, саму по себе метафизику, какой бы она ни была в своих самых разных проявлениях, но некоторый проект или, точнее, набор некоторых стратегических программ и связанных с ними ценностей – таких ценностей и таких программ, относительно которых можно как-то себя позиционировать и относительно которых оказывается удобно позиционировать всех остальных (вплоть до навешивания ярлыков – этот метафизик, тот не метафизик). Для того, чтобы что-то с чем-то объединить, а что-то от чего-то отделить – и сделать это именно в смысле принятия или непринятия каких-то ценностных установок относительно допущения и провозглашения тех или иных моделей единства мира и построения философии в целом. Соответственно, возникает вопрос: а какие, собственно, ценности воплощает собой эта самая метафизика или тот набор метафизических программ, которые принято называть этим словом? Для того, чтобы в этом разобраться, можно было бы попытаться рассмотреть, какие тут действуют, собственно, социокультурные и политические механизмы, какие социальные и политические лозунги выдвигают как сторонники, так и защитники этой программы. Но, если мы пойдем по этому пути, мы рискуем тогда сами неизбежно попасть в то же самое резко поляризованное социальное или политическое поле, которое будут размечать разнообразные интересы соответствующих групп – тех, которые выступают за или, соответственно, против так или иначе понимаемой метафизики. Поэтому, наверно, имеет смысл попытаться рассмотреть, зачем и для чего понадобилось именно метафизику объявить знаменем тех или иных проектов – точнее, попытаться рассмотреть, какие именно этой самой метафизикой воплощаются ценности, за или против которых выступают те, кто заявляет о своей поддержке или, наоборот, о своем неприятии метафизики.
Как известно, термин «метафизика» распространился с легкой руки систематизатора аристотелевских сочинений Андроника Родосского, который дал такое название (в техническом смысле: как следующим после «Физики») тем книгам, где Аристотель вел речь о «первой философии»[67 - А также мудростью и даже теологией [ср. 393, с. 451] – сообразно разделению сущего (и единого).] (Met. IV, 2, 1004a 3–4) [18, с. 121] – фундаментальной научной дисциплине, рассматривающей «первые начала и причины» (Met. I, 1, 981b 26–27; Met. I, 2, 982a 25–30 etc.) [18, с. 67, 68]. Это именование оказалось очень удобным для обозначения науки о «сущем как таковом»[68 - Взятом в целом, в его единстве, ибо «сущее и единое – одно и то же» (Met. IV, 2, 1003b 23) [18, с. 120].] (Met. IV, 1, 1003a 23–24) [18, с. 119] и для указания на то, что располагается «за» физикой, превосходя ее и не охватываясь ею. Следующей в фарватере Аристотеля западноевропейской тради-ции[69 - Вплоть до некоторых современных авторов [см., например: 226].] – от схоластики до трансцендентализма включительно – было нужно застолбить для философии область сверхчувственных[70 - Но не сверхопытных (если, конечно, не ограничивать опыт сферой чувственного) – ведь извлечение опыта и будет познанием (совершенно не обязательно чувственным или мистическим), а познание предполагает опыт, в том числе и интеллектуальный.] оснований любой науки как важнейшее место концентрации внимания и приложения сил, в том числе и на терминологическом уровне, поэтому программа такого разворачивания мысли и стала называться метафизической. Иными словами, физика рассматривалась как нечто исходное, ближайшее – точнее, дело представлялось так, что область физического нам непосредственно дана, и именно с этой областью имеет дело физика; в этом смысле непосредственно для физики никакая метафизика, соответственно, не нужна[71 - Отсюда, кстати, известный лозунг Ньютона «Физика, берегись метафизики!».]. И наоборот: то, что скрывается за этой самой сферой, как раз и будет в буквальном смысле метафизикой[72 - «Всякая настоящая философия знает, как многое – всё главное – совершилось прежде, чем мы успели заметить; знает, что к ранним, решающим событиям мы, люди, никогда не успеваем» [49, с. 35].].
Такое представление оказалось очень полезным, причем в разных смыслах. Прежде всего, очень эффектно так обосновывать вообще любую философию – в том смысле, что философия должна быть метафизикой, если она не хочет подвергаться критике со стороны физики, и тем более должна быть метафизикой, если она, кроме того, хочет обосновывать физику. Поскольку внутри сферы физического (уже очерченной) физика (уже сформированная) в общем и целом может обосновывать сама себя (в том смысле, что не нуждается в какой-то специальной философии – по крайней мере, на внутренний физический, так сказать, взгляд), то нужен какой-то взгляд со стороны, взгляд уже метафизический, который может обратиться к тем сверхчувственным основам, которые, не будучи сами физическими, тем не менее, поддерживают всю сферу физического в целом, в ее единстве, и обосновывают всё то, что может или должна изучать физика и, тем самым, обеспечивают всю физику. И этот аргумент, конечно, работает в обе стороны. Если мы полагаем, что физика имеет какие-то пределы, то за этими пределами – в данном случае совершенно не важно, насколько натуралистически мы их понимаем – должно быть что-то метафизическое. И наоборот: если мы хотим обосновывать философию и если мы хотим вдобавок к обоснованию философии обосновывать еще и физику, при этом не подвергаясь критике, даже потенциальной, со стороны физиков, то соответственно мы должны постулировать то, что вне физики (за физикой, после физики, под физикой, вокруг физики – в общем: то, что не физика) – для того, чтобы иметь возможность подводить фундаменты, базисы, основания и т. д., и т. п. То есть, если мы полагаем, что такие основания есть, или мы хотим полагать, что такие основания, допустим, должны быть, то нам приходится конструировать для работы с ними такую метафизику, каковая и должна выполнять соответствующие функции. И наоборот: если мы предполагаем, что у нас такая метафизика есть, то она неизбежно будет выполнять такие функции, и тогда мы сможем достичь требуемых результатов.[73 - Впрочем, уже в Новое время всё это стало пониматься не так однозначно: «именно физика наследует в XVII веке теологический диспозитив власти и осознает себя госпожой всякого возможного знания. Судьбы метафизики, в самом начале Нового времени, прослеживаются, таким образом, не в старческих причудах схоластических высочеств, а в дезактивации всякой метафизики, у которой отнимается обременительная приставка meta в угоду богоподобной физике. Для современников и непосредственных виновников случившегося это было всем, чем угодно, но только не очевидностью; не увидеть этого сегодня означало бы умысел или слепоту» [402, с. 120–121].]
Однако «первая философия ищет возвращения к тому, что Аристотель называет ата и что не надо спешить переводить как причина… В греческом понимании ата… “причина” переплелась с “виной’.. Аристотель ищет “причины”, т. е. такого гонящего виновника той свалки, в которой мы всегда оказываемся, с которой прежде всего имеем дело» [47, с. 410–411]. То есть, грубо говоря, вопрос Аристотеля, приводящий к «причинам», надо понимать так: кто виноват? Кто виноват в том, что нечто вообще получилось? Соответственно, главный вопрос метафизики – это вопрос о вине. Вопрос о том, кого надо обвинить и, наверное, осудить. Или, хотя бы, кому вменить ответственность за то, что, собственно, происходит. В этом смысле метафизика – это поиск виновного. Метафизика – это поиск того, кто мог бы взять на себя ответственность и должен был бы взять на себя ответственность, или кому мы можем и должны вменить ответственность за то, что происходит, за то, что вообще есть. Поэтому метафизика предполагает, что есть некоторый вполне конкретный и вполне конечный предел, предельный глубинный уровень, к которому должна прийти вот эта самая первая философия – первая в том смысле, что она самая важная, самая, так сказать, главная, и первая в том смысле, что она некоторая исходная, фундаментальная, потому что говорит как раз о первых основаниях и причинах. И поэтому, если мы говорим о вот этих самых основаниях и причинах, если мы считаем, что вот эти самые основания – это самое важное в философии, то, соответственно, именно к ним и надо идти, именно к ним надо прийти, чтобы именно из них уже выводить всё остальное. Ибо именно наличие таких предельных оснований и обеспечивает действенность классической модели единство мира и возможность его описания, исходя из одного принципа.
Но вся эта схема будет работать, только если мы предполагаем, что природа (как «фюсис» или как «натура») не бесконечна. В том смысле, что если мы начинаем двигаться, двигаться физически и двигаться последовательно, то мы обязательно в какой-то момент придем к некоторому пределу – например, должны будем предположить, допустим, вслед за традицией, что существуют атомы. Атом как естественный предел физического деления любых вещей, предметов – как то, что неделимо дальше. Однако, если мы обнаруживаем, что даже атом, в свою очередь, может делиться[74 - Терминологически это уже очень интересный ход: ведь само слово «атом» значит «неделимый», – так что «делимость неделимого» намечает хитрую такую попытку продвинуться дальше, за пределы пределов.], то какие могут быть еще пределы? А если этих самых пределов нет, то возникает вопрос: а где, собственно, физика должна закончиться и где, собственно, должна начаться метафизика со своими метафизическими предположительно виновными основаниями? Аналогично, то же самое будет наблюдаться и при движении в другую сторону, вверх, к миру как вселенной. Ведь что вверху, то и внизу, и если физика никаких пределов не находит, то совершенно непонятно, где может находиться то самое запредельное, в смысле – то самое мета, которое находится за физикой. Очевидно, что в таком случае надо выходить в какое-то другое измерение или пытаться найти в самой физике, точнее, внутри самой, так сказать, физической деятельности (если не внутри физической реальности), то концептуальное место, где эта метафизика смогла бы разместиться, притом так, чтобы это место, с одной стороны, было бы значимо для физики, а с другой стороны – было бы уже недосягаемо для претензий со стороны самой физики. И такое место можно попытаться найти (это, собственно, и было сделано логическими позитивистами) в техническом аппарате физики, в том, что физики – все – так или иначе используют, но что к физике непосредственно не относится. А именно – в действии языка. Того языка, на котором формулируются любые физические концепции и который сам по себе в сферу физики очевидно не попадает. Соответственно, метафизика как надстройка над физикой в этом смысле должна пониматься как метадология. Или метаязыковая какая-то практика, которая должна была бы каким-то образом эту физику пред-определять, поскольку без собственно методов и без логических структур физика просто работать не будет. И отсюда следует: если есть какие-то метафизические правила действия для физики, то вот эти метафизические правила должны некоторым образом предопределять ту физическую картину, которую выстраивает физика. Но при этом сами эти правила оказываются запредельными для физики и в этом смысле над-физическими. Тем не менее, вот эта самая гипотетическая «метафизика правил», оказывается, противостоит, конечно, той самой изначальной метафизике, которая претендовала на знание самих по себе метафизических оснований, на которых стоит не только и не столько физика как дисциплина, сколько физика как физический мир. К примеру, Карнап [см. 212] критикует метафизику за ее метафизичность, то есть за «логическую бессмысленность» обращения к внеэмпирическим принципам и основаниям, и оставляет философии единственную возможность для выживания – сфокусироваться исключительно на методе, понимаемом как логический анализ. Но если мы сосредотачиваемся на техническом аппарате, то мы оказываемся в ситуации, когда или мы должны занять по отношению к этому аппарату некую отстраненную мета-методологическую позицию, или мы должны отчетливо понимать, что и с этим методологическим аппаратом мы неизбежно работаем с помощью некоторых логических и языковых средств. Ведь все методологические разделения, все языковые дистинкции мы проводим опять же в языке и с помощью языка.
То есть, если даже мы претендуем на то, чтобы с помощью языка проводить некоторые разделения в экстралингвистическом мире, который к языку не сводится, тогда для этого нам придется всё равно использовать какие-то лингвистические средства. И когда мы проводим различения (например, метафизика-неметафизика), то само по себе каждое различание является некоторой процедурой или операцией, осуществляемой определенными средствами в определенном концептуальном пространстве, в котором подобное различение может иметь какую-то значимость. Скажем, если у нас есть истинные имена для всего в мире, если есть некий идеальный язык [см. 534], с помощью которого мы можем правильно назвать все, с чем вообще имеем дело, то тогда нам надо просто выучить правила имен [ср. 249]. Если же мы такого языка построить не можем (а мы, по-видимому, не можем) [см. 56], то – возможно – нам остается только считать, что имена представляют собой некоторые этикетки, которые мы навешиваем произвольно[75 - Ср.: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао» [244, с. 114].]. А если мы что-то обозначаем условно, то так же условно мы можем от этого в любой момент отказаться. Но навешивание и, соответственно, снятие этих этикеток будет зависеть от того, какую операцию нам нужно выполнить. Если мы хотим, допустим, выделить нечто, как-то его определить и обозначить, тогда мы претендуем на то, что знаем, каким образом, по каким критериям выделить это самое нечто. Так что, если мы считаем, что имена – не просто произвольные этикетки, тогда приходится отслеживать обуславливающие факторы. Но если нам нужно пользоваться правильными именами, то мы должны следовать правилам, чтобы иметь некий измеряемый социальный или культурный эталон. Отсюда – программа исправления имен[76 - Чжэнмин [см. 360].] и правильного называния того, что мы должны назвать. Ведь если для нас значимы некие эффекты, то тут надо правильными именами всё называть, дабы получать опять же правильные эффекты.