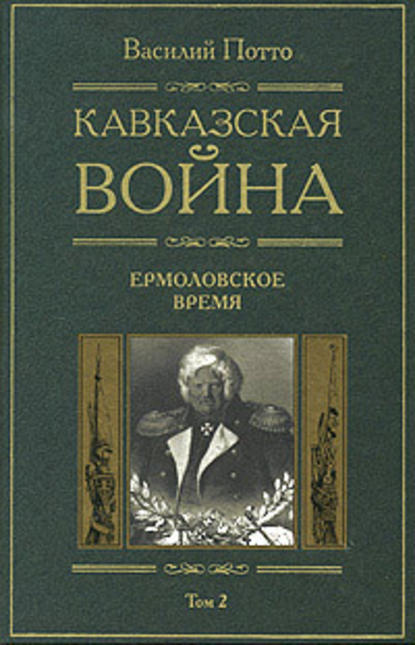По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кавказская война. Том 2. Ермоловское время
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И в тебе герой Кавказа
Вспламенил восторга миг!
Не видав войны кровавой,
Я смиренно созерцал
Мужа, избранного славой,
Петь не смел я – и молчал.
Я дивился исполину —
Исполинский был и век,
И как горную вершину
И его венчает снег.
Но как тот горит и блещет
В искрах солнечных огней,
Мне казалось, что трепещет
И над ним венец лучей!
Но где память о нем, где его слава были громки и вековечны, так это в той стране, на которую он положил свои лучшие силы, опытность мужа и энергию героя. Кавказ помнит своего богатыря от края и до края.
Кавказский солдат с любовью вспоминал Ермолова, имя которого было для него символом победы и о котором бесконечны рассказы. “То ли дело при Ермолове!”– такова обычная фраза, долго жившая среди кавказского войска.
“При нем,– рассказывал однажды старый казацкий есаул,– бывало, наберемся и страху и всего; ну, да и порадоваться было чему. Картина – посмотреть на Ермолая (так горцы звали его). Чудо-богатырь! Надень он мужицкий тулуп и пройди промеж черного народа,– ей Богу! – ни разу не видавши, узнаете – сама шапка долой просится… Раз, как сейчас помню, в Чечнях это было,– идем ночью с отрядом. Темно, хоть глаз выколи, дождь так и поливает, грязь по колено. Вот солдаты и раздобаривают. Я был в конвое, так еду за Алексеем Петровичем, да тоже слушаю.
– Ай да поход! Хоть бы знать – куда? – а то пропадешь ни за что; ноги не вытащишь – такая грязища.
Мы все слышим – и ни гу-гу. Как трогался отряд с места, Алексей Петрович оставался зачем-то в крепости, а потом догнал отряд и едет себе сторонкою. Темно – его и не видно солдатам; стали мы уже равняться с головой колонны, пехтура все болтает:
– Вишь, повели! А куда? Черт знает, да и какой дьявол ведет-то. Хоть бы Алеша-то наш был с нами…
– С вами, ребята, с вами! – вдруг загремел знакомый богатырский голос.
Батюшки мои! Как грянут “Ура!”– так аж в ушах затрещало; куда и дождь и грязь девались; песенники вперед, ряды стянулись, пошли как по плац-парадному месту, бодро, весело, в охотку; духом отхватали сорок пять верст.
Вот было время, так время! Бывало, только скажет: “Ребята, за мной!” – “Ура!” загремит в ответ; нужды нет – куда, зачем и с чем! Батюшка Петрович и накормит, и напоит, и к ночлегу приведет – в напасть не даст. Нехристь, бывало, как заслышит, что сам едет, куда и удаль девалась, не до фрижитовки – так и ложится, бывало: бери живьем, налагай присягу, возьми и аманатов – только душу пусти на покаянье. Сама вражья сила говорит, бывало: “На небе – Аллах, здесь – Ермолай!”
И вражья сила Кавказа, действительно, долго помнила и почитала знаменитого Ермолая. Горцы относились к нему с суеверным страхом, близким к невольному благоговению, и передали память о нем из поколения в поколение. Легенды их представляют его человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, могущим все сокрушить одним мановением своей атлетической длани. “Горы дрожат от гнева его,– говорит одна из их песен,– а взор его рассекает, как молния”.
Когда, по окончании турецкой войны 1829 года, перед отъездом с Кавказа графа Паскевича, разнесся слух, что главнокомандующим опять будет Ермолов, горцы заблаговременно приготовили аманатов. Спустя четырнадцать лет после этого они толпами съезжались в Шуру, прося позволения только видеть приехавшего тогда на Кавказ одного из сыновей Ермолова, о чем молва немедленно облетела все горы.
Когда Шамиля спросили в Москве, что он желает видеть, он ответил: “Прежде всего Ермолова”. В альбоме князя Барятинского хранится рисунок, изображающий это характерное свидание двух знаменитейших бойцов Кавказа.
И во время военных действий, наверху своего могущества, Шамиль показывал всегда особое уважение к имени Ермолова и даже велел пощадить аул, в котором жили родные его кебинных жен. Мало того, на берегу Каспийского моря, неподалеку от Низового укрепления стояла изба, или, пожалуй, домик, выстроенный здесь когда-то войсками, бывшими с Ермоловым в походе, для укрытия от непогоды “батюшки Алексея Петровича”. Домик этот построен был из чинар в два обхвата каждый, и при нем всегда стоял часовой, не столько для охраны домика, сколько из благоговейного чувства к памяти Алексея Петровича. Домик этот был дорог кавказским войскам, и все его берегли, как славное предание минувшего времени. Вот почему в 1843 году, когда восстание охватило весь Дагестан, и Низовое было окружено неприятелем, все с грустью помышляли о печальной судьбе, которая должна была постигнуть этот домик, стоявший один-одинешенек посреди бушующего населения. Но такова сила исторического имени Ермолова, что при всеобщем, можно сказать, разрушении до этого домика не коснулась ни одна рука горского хищника, и по окончании смут, “мы,– говорит один очевидец,– вновь имели счастье поклониться этому скромному приюту великого кавказского деятеля”.
Но, к сожалению, то, чего не сделали дикие горцы, сделало холодное равнодушие к исторической славе и невежество наших современников. В настоящее время вы уже не найдете и следов этого домика: он куда-то исчез, как исчезла еще более знаменитая грозненская землянка Ермолова.
Ермолов, со своей стороны, платил Кавказу той же полной любовью; он слишком, всеми фибрами своего сердца прирос к нему, чтобы не следить с горячим участием за всем, что делается в крае. А там, между тем, торжествовала система, противоположная его системе, и Ермолов, слишком хорошо знавший Кавказ, не мог не видеть печальных последствий этого. Он всегда и являлся в роли иронического предвестника событий.
Как известно, после Паскевича назначен был на Кавказ барон Розен, Розена сменил Головин, Головина – Нейдгардт, и дела там шли все хуже и хуже.
Когда смененный Розен приехал в Москву и посетил Ермолова, чтобы посоветоваться с ним, не следует ли ему поехать в Петербург для объяснений, Ермолов серьезным тоном ответил ему: “Погоди немного, скоро вернется Головин, и тогда мы втроем поедем в Питер”. Головин, в самом деле, не долго пробыл на Кавказе, и на его место отправился Нейдгардт. Узнав об этом, Ермолов сказал: “Ну! Нейдгардт, видно, что немец,– предусмотрителен: нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток – знает, что скоро вернется”.
Узнав же, что Розен и Головин собираются-таки поехать в Петербург, он при первой встрече сказал им: “Знаете ли что, любезнейшие: не обождать ли Нейдгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать. Тогда наймем четырехместную карету, да так вместе, вчетвером, и отправимся в Питер”. И Нейдгардт, действительно, не был счастливее своих предместников.
Только назначение Воронцова Ермолов приветствовал с истинным доброжелательством и предсказал ему блестящие успехи. Но, впрочем, и здесь значительную долю успехов он относил также к увеличению материальных средств в руках наместника. “Теперь за Кавказом,– говорил он,– двадцать генералов, а при мне был один Вельяминов, которого я вызвал к брату; теперь в каждом из пяти отделений такой штаб, как был у меня во всем корпусе; теперь войск под ружьем двести пятьдесят тысяч, а у меня было семьдесят. Теперь наместник получает на свое содержание сто пятьдесят тысяч рублей серебром, а я получал сорок ассигнациями и жил полгода в лагере, чтобы скопить денег на бал или на обед”.
Уже на полном склоне дней Ермолову выпала честь вновь появиться в деятельной роли защитника отечества, и притом в один из самых критических моментов истории России.
Началась Севастопольская война. Заговорили о народном ополчении, и вся Москва, вспоминая избрание Кутузова начальником Петербургских дружин в 1812 году, выразила желание иметь начальником московского ополчения – Ермолова. Избрание состоялось торжественное, единодушное, потому что из многих тысяч голосов в избирательной урне оказалось только девять черных шаров…
Невозможно изобразить волнения, объявшего всех присутствовавших в огромной зале благородного собрания, когда известно стало количество избирательных голосов. Долго не прерывались рукоплескания и крики восторга. В приветственной речи, обращенной по этому случаю к Ермолову, между прочим говорилось:
“Сам Бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной годины общего испытания. Идите ж, Алексей Петрович, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих армий. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будет рады увидеть вашу белую голову и услышать любимое имя; оно неразлучно в их памяти с именем Суворова, из рук которого вы получили первый Георгиевский крест, и с именем Кутузова, которому служили правой рукой в незабвенном Бородинском сражении”.
Вся Москва ликовала. Купцы в рядах, извозчики со своими седоками – все толковало о Ермолове и радовалось, как будто победа уже осенила русские знамена и враги изгнаны из пределов отечества.
Графиня Ростопчина выразила это общее настроение Москвы в следующих звучных стихах.
Народный голос – голос Бога.
Он ныне громко вопиет:
“Вставай, Ермолов! Русь зовет!” —
Тебе знакома ведь дорога.
С единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,
И над московским ополченьем
Вождем поставила Москва.
Возьми рукой неослабелой
Свой старый меч – французов страх.
Наш вождь, в покое поседелый,
Помолодеешь ты в боях.
Вставай! Честь русского народа
Его врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие воскреснут дни.
Вставай! Когда по всей России
Известен станет выбор наш:
Шатры восплещут боевые,
Хвалой откликнется шалаш!
Какой-то аноним ответил ей от имени Ермолова.
Не неизвестного поэта
Читал я добрые слова:
По звукам лестного привета
Вас прямо назовет молва.
Вы помянули год восстанья,
Для нашей славы дивный век,
Когда, услыша глас призванья,
Явился русский человек.
Вы правы! Пусть меня забыли,
Но наш не позабыл народ,
Когда Москву мы хоронили,
Двенадцатый свершали год.
Вспламенил восторга миг!
Не видав войны кровавой,
Я смиренно созерцал
Мужа, избранного славой,
Петь не смел я – и молчал.
Я дивился исполину —
Исполинский был и век,
И как горную вершину
И его венчает снег.
Но как тот горит и блещет
В искрах солнечных огней,
Мне казалось, что трепещет
И над ним венец лучей!
Но где память о нем, где его слава были громки и вековечны, так это в той стране, на которую он положил свои лучшие силы, опытность мужа и энергию героя. Кавказ помнит своего богатыря от края и до края.
Кавказский солдат с любовью вспоминал Ермолова, имя которого было для него символом победы и о котором бесконечны рассказы. “То ли дело при Ермолове!”– такова обычная фраза, долго жившая среди кавказского войска.
“При нем,– рассказывал однажды старый казацкий есаул,– бывало, наберемся и страху и всего; ну, да и порадоваться было чему. Картина – посмотреть на Ермолая (так горцы звали его). Чудо-богатырь! Надень он мужицкий тулуп и пройди промеж черного народа,– ей Богу! – ни разу не видавши, узнаете – сама шапка долой просится… Раз, как сейчас помню, в Чечнях это было,– идем ночью с отрядом. Темно, хоть глаз выколи, дождь так и поливает, грязь по колено. Вот солдаты и раздобаривают. Я был в конвое, так еду за Алексеем Петровичем, да тоже слушаю.
– Ай да поход! Хоть бы знать – куда? – а то пропадешь ни за что; ноги не вытащишь – такая грязища.
Мы все слышим – и ни гу-гу. Как трогался отряд с места, Алексей Петрович оставался зачем-то в крепости, а потом догнал отряд и едет себе сторонкою. Темно – его и не видно солдатам; стали мы уже равняться с головой колонны, пехтура все болтает:
– Вишь, повели! А куда? Черт знает, да и какой дьявол ведет-то. Хоть бы Алеша-то наш был с нами…
– С вами, ребята, с вами! – вдруг загремел знакомый богатырский голос.
Батюшки мои! Как грянут “Ура!”– так аж в ушах затрещало; куда и дождь и грязь девались; песенники вперед, ряды стянулись, пошли как по плац-парадному месту, бодро, весело, в охотку; духом отхватали сорок пять верст.
Вот было время, так время! Бывало, только скажет: “Ребята, за мной!” – “Ура!” загремит в ответ; нужды нет – куда, зачем и с чем! Батюшка Петрович и накормит, и напоит, и к ночлегу приведет – в напасть не даст. Нехристь, бывало, как заслышит, что сам едет, куда и удаль девалась, не до фрижитовки – так и ложится, бывало: бери живьем, налагай присягу, возьми и аманатов – только душу пусти на покаянье. Сама вражья сила говорит, бывало: “На небе – Аллах, здесь – Ермолай!”
И вражья сила Кавказа, действительно, долго помнила и почитала знаменитого Ермолая. Горцы относились к нему с суеверным страхом, близким к невольному благоговению, и передали память о нем из поколения в поколение. Легенды их представляют его человеком гигантского роста, с огромной львиной головой, могущим все сокрушить одним мановением своей атлетической длани. “Горы дрожат от гнева его,– говорит одна из их песен,– а взор его рассекает, как молния”.
Когда, по окончании турецкой войны 1829 года, перед отъездом с Кавказа графа Паскевича, разнесся слух, что главнокомандующим опять будет Ермолов, горцы заблаговременно приготовили аманатов. Спустя четырнадцать лет после этого они толпами съезжались в Шуру, прося позволения только видеть приехавшего тогда на Кавказ одного из сыновей Ермолова, о чем молва немедленно облетела все горы.
Когда Шамиля спросили в Москве, что он желает видеть, он ответил: “Прежде всего Ермолова”. В альбоме князя Барятинского хранится рисунок, изображающий это характерное свидание двух знаменитейших бойцов Кавказа.
И во время военных действий, наверху своего могущества, Шамиль показывал всегда особое уважение к имени Ермолова и даже велел пощадить аул, в котором жили родные его кебинных жен. Мало того, на берегу Каспийского моря, неподалеку от Низового укрепления стояла изба, или, пожалуй, домик, выстроенный здесь когда-то войсками, бывшими с Ермоловым в походе, для укрытия от непогоды “батюшки Алексея Петровича”. Домик этот построен был из чинар в два обхвата каждый, и при нем всегда стоял часовой, не столько для охраны домика, сколько из благоговейного чувства к памяти Алексея Петровича. Домик этот был дорог кавказским войскам, и все его берегли, как славное предание минувшего времени. Вот почему в 1843 году, когда восстание охватило весь Дагестан, и Низовое было окружено неприятелем, все с грустью помышляли о печальной судьбе, которая должна была постигнуть этот домик, стоявший один-одинешенек посреди бушующего населения. Но такова сила исторического имени Ермолова, что при всеобщем, можно сказать, разрушении до этого домика не коснулась ни одна рука горского хищника, и по окончании смут, “мы,– говорит один очевидец,– вновь имели счастье поклониться этому скромному приюту великого кавказского деятеля”.
Но, к сожалению, то, чего не сделали дикие горцы, сделало холодное равнодушие к исторической славе и невежество наших современников. В настоящее время вы уже не найдете и следов этого домика: он куда-то исчез, как исчезла еще более знаменитая грозненская землянка Ермолова.
Ермолов, со своей стороны, платил Кавказу той же полной любовью; он слишком, всеми фибрами своего сердца прирос к нему, чтобы не следить с горячим участием за всем, что делается в крае. А там, между тем, торжествовала система, противоположная его системе, и Ермолов, слишком хорошо знавший Кавказ, не мог не видеть печальных последствий этого. Он всегда и являлся в роли иронического предвестника событий.
Как известно, после Паскевича назначен был на Кавказ барон Розен, Розена сменил Головин, Головина – Нейдгардт, и дела там шли все хуже и хуже.
Когда смененный Розен приехал в Москву и посетил Ермолова, чтобы посоветоваться с ним, не следует ли ему поехать в Петербург для объяснений, Ермолов серьезным тоном ответил ему: “Погоди немного, скоро вернется Головин, и тогда мы втроем поедем в Питер”. Головин, в самом деле, не долго пробыл на Кавказе, и на его место отправился Нейдгардт. Узнав об этом, Ермолов сказал: “Ну! Нейдгардт, видно, что немец,– предусмотрителен: нанял себе дом в Москве заранее и дал задаток – знает, что скоро вернется”.
Узнав же, что Розен и Головин собираются-таки поехать в Петербург, он при первой встрече сказал им: “Знаете ли что, любезнейшие: не обождать ли Нейдгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать. Тогда наймем четырехместную карету, да так вместе, вчетвером, и отправимся в Питер”. И Нейдгардт, действительно, не был счастливее своих предместников.
Только назначение Воронцова Ермолов приветствовал с истинным доброжелательством и предсказал ему блестящие успехи. Но, впрочем, и здесь значительную долю успехов он относил также к увеличению материальных средств в руках наместника. “Теперь за Кавказом,– говорил он,– двадцать генералов, а при мне был один Вельяминов, которого я вызвал к брату; теперь в каждом из пяти отделений такой штаб, как был у меня во всем корпусе; теперь войск под ружьем двести пятьдесят тысяч, а у меня было семьдесят. Теперь наместник получает на свое содержание сто пятьдесят тысяч рублей серебром, а я получал сорок ассигнациями и жил полгода в лагере, чтобы скопить денег на бал или на обед”.
Уже на полном склоне дней Ермолову выпала честь вновь появиться в деятельной роли защитника отечества, и притом в один из самых критических моментов истории России.
Началась Севастопольская война. Заговорили о народном ополчении, и вся Москва, вспоминая избрание Кутузова начальником Петербургских дружин в 1812 году, выразила желание иметь начальником московского ополчения – Ермолова. Избрание состоялось торжественное, единодушное, потому что из многих тысяч голосов в избирательной урне оказалось только девять черных шаров…
Невозможно изобразить волнения, объявшего всех присутствовавших в огромной зале благородного собрания, когда известно стало количество избирательных голосов. Долго не прерывались рукоплескания и крики восторга. В приветственной речи, обращенной по этому случаю к Ермолову, между прочим говорилось:
“Сам Бог сберегал вас, кажется, для этой тягостной годины общего испытания. Идите ж, Алексей Петрович, с силами Москвы, в которой издревле отечество искало и всегда находило себе спасение, идите принять участие в подвигах действующих армий. Пусть развернется перед ними наше старое, наше славное знамя 1812 года. Все русские воины будет рады увидеть вашу белую голову и услышать любимое имя; оно неразлучно в их памяти с именем Суворова, из рук которого вы получили первый Георгиевский крест, и с именем Кутузова, которому служили правой рукой в незабвенном Бородинском сражении”.
Вся Москва ликовала. Купцы в рядах, извозчики со своими седоками – все толковало о Ермолове и радовалось, как будто победа уже осенила русские знамена и враги изгнаны из пределов отечества.
Графиня Ростопчина выразила это общее настроение Москвы в следующих звучных стихах.
Народный голос – голос Бога.
Он ныне громко вопиет:
“Вставай, Ермолов! Русь зовет!” —
Тебе знакома ведь дорога.
С единодушным увлеченьем
Тебя назначила молва,
И над московским ополченьем
Вождем поставила Москва.
Возьми рукой неослабелой
Свой старый меч – французов страх.
Наш вождь, в покое поседелый,
Помолодеешь ты в боях.
Вставай! Честь русского народа
Его врагам припомяни,
И пусть двенадцатого года
Великие воскреснут дни.
Вставай! Когда по всей России
Известен станет выбор наш:
Шатры восплещут боевые,
Хвалой откликнется шалаш!
Какой-то аноним ответил ей от имени Ермолова.
Не неизвестного поэта
Читал я добрые слова:
По звукам лестного привета
Вас прямо назовет молва.
Вы помянули год восстанья,
Для нашей славы дивный век,
Когда, услыша глас призванья,
Явился русский человек.
Вы правы! Пусть меня забыли,
Но наш не позабыл народ,
Когда Москву мы хоронили,
Двенадцатый свершали год.
Другие электронные книги автора Василий Александрович Потто
Амалат-бек




 4.67
4.67