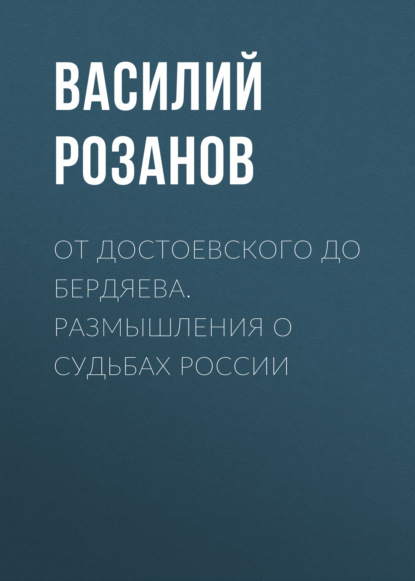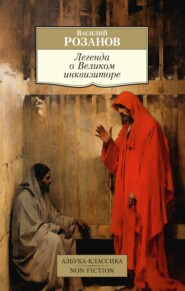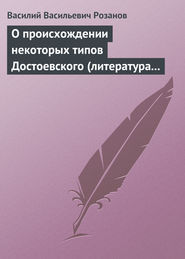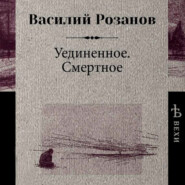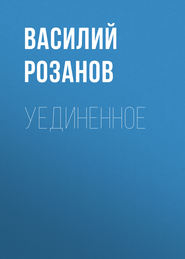По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
От Достоевского до Бердяева. Размышления о судьбах России
Жанр
Серия
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Дух человеческий – в плену. Плен этот я называю «миром», мировой данностью, необходимостью. «Мир сей» не есть космос, он есть космическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. И истинный путь есть путь освобождения от «мира», освобождение духа человеческого из плена необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости «мира», но движение вверх или в глубь по линии вне-мировой, – движение в духе, а не в «мире». Свобода от реакций на «мир» и от оппортунистических приспособлений к «миру» есть великое завоевание духа. Это – путь высших духовный созерцаний, духовной собранности и сосредоточенности. Космос есть истинно-сущее, подлинное бытие, но «мир» – призрачен, призрачна мировая данность и мировая необходимость. Этот призрачный «мир» есть порождение нашего греха. Учителя Церкви отождествляли «мир» со злыми страстями. Плеиенность духа человеческого «миром» есть вина его, грех его, падение его. Освобождение его от «мира» и есть освобождение от греха, искупление вины. Восхождение падшего духа. Мы не от «мира» и не должны любить «мира» и того, что в «мире».
Доселе – все знакохмо нам из церковных книг. То же самое скажет любой проповедник с кафедры. Где же философ?
«Но само умение о грехе выродилось в рабство у призрачной необходимости. Говорят: ты грешное, падшее существо и потому не дерзай вступать на путь освобождения духа от «мира», на путь творческой жизни духа, неся бремя послушания последствиям греха. И остается дух человеческий скованным в безвыходном кругу. Ибо изначальный грех и есть рабство, несвобода духа, подчинение дьявольской необходимости, бессилие определить себя свободным творцом, утеря себя через утверждение себя в необходимости «мира», а не в свободе Бога. Путь освобождения от «мира» для творчества новой жизни и есть путь освобождение от греха, преодоление зла, собирание сил духа для жизни божественной. Рабство у «мира», у необходимости и данности есть не только несвобода, но и узаконение и закрепление нелюбовного, разодранного, некосмического состояния мира. Свобода – любовь. Рабство – вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над жизнью, природой. И нельзя не допускать до этого пути на том основании, что греховная человеческая природа и погружена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и нравственного суждения в том – оставлять человека в низинах этого «мира» во имя послушания последствиям греха. На почве этого сознания растет постыдное равнодушие к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в собственную греховность рождает двойные мысли, – вечные опасения смешения Бога с дьяволом, Христа – с антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу постыдно равнодушной, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до игры в двойные мысли. Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать, какому Богу она служит, любит чувствовать страх, любит испытывать опасность. Эта упадочность, расслабленность, раздвоенность духа есть косвенное порождение христианского учения о смирении и послушании, – вырождение этого учения. Упадочному двоению мыслей и расслабленному равнодушию к добру и злу нужно решительно противопоставить мужественное освобождение духа и творческий почин. Но это требует сосредоточенной решимости освободиться от ложных, призрачных наслоений культуры и ее накипи, – этого утонченного плена у «мира».
Прежде всего – глубокий упрек философской книге: автор высказывает, а не доказывает. Слышим проповедника, но не видим философа. Но и самое «высказываемое» – тускло, бледно. Остановимся на минуту: есть «высказывания» до того могущественные по силе льющегося в них духа, – льющегося, как раскаленный металл, который горяч и, однако, вместе с тем много весит, сильно давит, – что душа читателя или слушателя принимает слово без рассуждений, без доказательств и уяснений, – именно подавленная этою «массою льющегося металла». Державин хорошо выразил это в «Водопаде»:
Алмазна сыплется гора…
И Лермонтов в «Дарах Терека», в словах о Каспии:
И старик во блеске власти
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза…
Эти слова о Каспии, в стародавние годы, как-то всегда приходили мне на ум как сравнения, когда я думал о старике Каткове. Он не доказывал, а подавлял; он не разъяснял, а приказывал; и не послушаться его людям власти, людям значительным не было никакой возможности. Это примеры нам близкие, нам еще памятные, – личного и словесного обаяния. Так как, однако, дело идет о религиозных темах, о темах греха и искупления, – то в этой исключительной и высокой сфере мы имеем один давний пример, где, можно сказать, слово раздавило мир. Это – апостол Павел. Хочется, сказать, «он повелевал и самым громам»; хочется сказать: «словом он утишал одни бури и словом он поднимал другие бури». Но – не доказывал. Где и какие особенно сложные, длинные доказательства. В «доказательствах» нуждался Платон, Сократ нуждался, Аристотель – слишком нуждался. Все это – прозаики души человеческой. Но зачем эти «доказательства» Павлу, когда он говорил и хотел и знал правду и, кроме правды, душа его ничего не хотела, и слушавшие его и видевшие перед собою его знали, что ложь никогда не ночевала у него даже в соседней комнате, а не то чтобы угнездиться в дуле его…
И вот «таким», – о, слишком немногим даже во всемирной истории, – «доказательства» не нужны, задерживают, охлаждают, – охлаждают и говорящего, и слушающего. «Не надо доказательств!» – кричит слушатель, горя сердцем… Бердяев, конечно, никакого «горения сердца» своею прозою не пробуждает, и читатель ему кричит: «Докажи!».
А Бердяеву и доказать нельзя. Что он здесь напутал, кого упрекает? По-видимому, в последних строках он подразумевает «непротивленцев – толстовцев», которых ведь так мало в общем и все они в общем так бесталанны, что и говорить о них не стоит. Что же «преодолевать» явное бессилие? Оно само падает, – ранее всякой борьбы. Но Бердяев не ясен и не называет имен; по употреблению слова «упадочники» и по противоположению «Христа» и «Антихриста» можно здесь разуметь и декадентов, с их корифеем Мережковским. Тоже «сила», еще слабее толстовцев. Нет: Бердяев как-то обобщенно говорит о «заразе, охватившей мир», – «пассивно подчиниться последствиям греха» – говорит об этом, как о «последствии христианства», – говорит о почве «церковной традиции». В таком случае, это совершенно не верно, неправильно. Решительно со времен древнейших и до нашего времени без какого-либо перерыва именно этой традиции, святые христианства и учителя Церкви звали всех людей к подвигу и подвижнической жизни, звали «выйти из мира», разобщиться с ним, даже до удаления в пустыню, в лес, на гору. Неужели можно поверить, что Бердяев никогда не слыхал о «горе Афонской», не слыхал стиха наших старообрядцев: «О, мать, великая пустыня, прими меня в себя», и даже самое наименование монастырей «пустынью» указывает на эту вековую и тысячелетнюю традицию. И неужели все это легче его странички «Введения»? Поистине, текла река в море: над нею прошел дождичек; и дождевые капли оттого, чао они падали «сверху», вдруг бы подумали: «вот теперь вода стала настоящей, мокрою и река дотечет до моря». Она решительно всегда текла в море и дотекла бы и дотечет до моря без всякого дождя, даже самого крупного. Просто это «не нужно», «лишне».
И что за нападки на «мир», и противопоставление в «бытии» (общее родовое понятие) ему «космоса». «Космосом», т. е. «украшенным», «прекрасным» первому Пифагору пришло на ум назвать мир; и философия поистине может гордиться, что это благородное имя дано было ему не поэтом, не жрецом, не священником и, наконец, даже не в священной какой-нибудь книге, а именно из недр философии, на самой ее первой заре, поднялся человек и сказал: «Как прекрасно все… Это не только созданье чье-то, но это – какая-то красота, на меня сыплющаяся… Это – не вещь и не бытие, а это – космос»… Прекрасно. Прекрасное имя. Прекрасный человек. Сказал ли это, однако, он после выкладок ума, после доказывания? Нет: в самом слове «красота» содержится доказательство происхождения этого слова. Это – не человек сказал, это глас ему сказал. Точнее – глас внушил сказать; но философ сперва подумал, а затем подтвердил впечатление гласа. Все «так связано в мире, так в нем гармонично», – «впадинки, (говоря в переносном смысле), так соответствуют горкам, а горки – впадинкам», что именно в этом сочетании, в каком они даны в действительности, они превращают мир в величайшее удобство, правильность и красоту! И прямо нудишься сказать, нудишься часто: «даже и сама смерть, как она ни ужасна, как единичный случай, как она не вырывает у нас каждый раз рыдания, необходима, однако, в общем, ибо без нее мир явил бы лицо такой ужасной дряхлости, такого старческого изнеможения!!! – Тогда, как при смерти он вечно юн и молод, ибо только при ней стало возможно и рождение, стало возможно вечное омоложение планеты и всего на ней живущего!».
Итак, это противоположение в «бытии» «мира» и «мирского» «космосу» противоречит тому самому первоначальному и великому уму, который впервые произнес благородное слово «космос»; и, кроме того, оно содержит в себе грех некоторой тщеславной гордыни, презрительно смотря на «мелочи жизни» с высоты какого-то «духа» или каких-то «великих вещей». Тогда как «гармония» и «космос» или «украшенность» мироздания особенно-то и открывается в рассмотрении его подробностей, «мелочей», т. е. в рассмотрении мелких, мало видных частей мирового механизма. Притом «Сотворивый мир» настолько бесконечно превосходит сотворенные Им вещи, что перед Ним величайшая из них и самомалейшие уравниваются. Вообще же грешна в мире самая эта улыбка к «малому», самое это слово: «ты – мало»; грешна эта высокомерность, брезгливость, пренебрежение к вещам…
Это – одна часть возражений Н. А. Бердяеву. Другая – еще горше: он говорит, что мир есть «разлад», «ссора» и приписывает это «греху» и «слабости» мира. Он хочет из «разлада» выставить на лоно какого-то «покоя», где (посмеюсь над ним) сон и сытость философствующего буржуа…
Что же: он отрицает, что мало внедрились в «мир» и «космос» мудрецы от Гераклита до Гегеля, которые все сказали, что в «сварливости» мира и в его кажущемся «разладе» лежит корень его оживления, корень того, что «sein» переходит в «verden», что «бытие» развертывается в «генезис»? Да что нам философы, когда перед нами Бог, который через действие на планету сил «центробежной» и «центростремительной» устроил их бег на «орбите», уже наверно прекраснейшей и твердейшей, чем всякая метафизика… Таким образом, то, что Н. А. Бердяев зовет «распрей» и «разладом» мира есть сочетание так сказать «коытрофорсов», наиболее крепко держащих мировую тьму. Но зачем «контрофорсы»? Зачем не просто лежать? Но из лежанья ничего не выйдет, кроме лежанья, тогда как по какому-то мотиву Вседержитель хотел, чтобы мир шел, жил, бежал, летел… Верно и существо Вседержителя – летучее, летящее, ибо Он всему дал полет. И вот силы «центробежная» и «центростремительная» или, в истории, «сила прогрессивная» и целый ряд сил – «охранильные», «консервативные», «космосы», «регрессивные», которые все не уничтожают, но регулируют одну «прогрессивную силу». Ибо правь она одна в истории – и народы, царства, законы разлетелись бы в пыль.
Что же говорит Бердяев о творчестве?
«Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. Жертвенность творчества не есть гибель и ужас. Сама жертвенность – активна, а не пассивна. Личная трагедия, кризис, судьба переживаются, как трагедия, кризис, судьба мировая. В этом – путь. Исключительная работа о личном спасении и страх личной гибели – безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного творчества и страх собственного бессилия – безобразно самолюбивы. Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную разорванность человека и мира. Человек создан Творцом гениальным (не непременно гением) и гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью, победить все лично-эгоистическое и лично-самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других… Отъединенная подавленность сама по себе есть уже грех против божественного признания человека, против зова Божьего, Божьей потребности в человеке. Только переживающий в себе все мировое и все – мировым только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть творцом и лицом… Путь творческий – мертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности. Ибо мертвенное страдание творчества никогда не есть подавленность. Всякая подавленность есть оторванность человека от подлинного мира, утеря микрокосмичности плен у «мира», рабство у данности и необходимости. Природа всякого пессимизма и скептицизма – эгоистическая и самолюбивая. Сомнение в творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия и болезненное «я» – чество (т. е. бесконечный эгоизм только своего «я»). Смирение и сомневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и решимость, всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая оглядка и эгоистическая отъедипенность».
И все в этом роде… «свобода от мира» есть соединение с подлинным миром, – «космосом»… Право: нет двух вещей, также ненавидящих друг друга, как мир и «лир» Бердяева. А то же десятеричное «i» в обоих, и тот же твердый на конце знак в обоих. В конце концов – он уже есть или кажется самому себе ужасным еретиком:
«Я знаю», – пишет он в заключении, – «что меня могут обвинить в коренном противоречии, раздирающем все мое мирочувствие и все мое миросозерцание. Меня обвинят в противоречивом совмещении крайнего религиозного дуализма с крайним религиозным монизмом. Предвосхищаю эти нападения. Я исповедую почти монический дуализм. Пусть так: «Мир» есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из «мира» нужно уйти, преодолеть его до конца, «мир» должен сгореть от аримановой природы. Свобода от «мира» – пафос моей книги. Существует объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность – аримановы. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в Божественной любви, жизнь в Плероме. И я – не исповедую почти пантеистический монизм. Мир Божественен по своей природе. Человек Божественен по своей природе. Мировой процесс есть самооткровение Божества, он совершается внутри Божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу? Все, совершающееся с человеком, совершается с Богом. Не существует дуализма Божественной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности Бога миру и человеку. Эта антипатия дуализма и монизма у меня до конца сознательна и я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни. Религиозное сознание по существу антипатично. В сознании нет выхода из вечной антипатичности трансцендентного и имманентного дуализма и монизма. Антипатичность не в сознании, не в разуме, а в самой религиозной жизни, в глубине самого религиозного опыта. Религиозный опыт до конца изживает мир, как совершено вне Божественный и как совершенно Божественный, – изживает зло, как отпадение от Божественного смысла и как имеющее имманентный смысл в процессе мирового развития. Мистический тезис всегда давал антиномические решения проблемы зла, – всегда в нем дуализм сочетался с монизмом. Для величайшего из мистиков Якова Беме зло было в Боге и зло было отпадением от Бога, в Боге был темный исток и Бог не был ответствен за зло. Все почти мистики стоят на сознании имманентного изживания зла. Трансцендентная точка зрения всегда есть предпоследнее, а не последнее. И переживание зла периферично и экзотерично в религиозной жизни. Глубже, эсотеричнее переживание внутреннего расчленения в Божественной жизни, богооставленности и богопротивления, как жертвенного пути восхождения… Поразителен парадокс религиозной жизни: крайний трансцендентизм порождает оппортунистическое приспособление, сделки со «злом» мира, – а зрелый имма-нентизм порождает волю к радикальному выходу в Божественную жизнь духа, радикальному преодолению «мира». Зрелый имманентизм освобождает от подавленности злом «мира». «Мир сей» есть плен у зла, выпадение из Божественной жизни, «мир» должен быть побежден. Но «мир сей» есть лишь один из моментов внутреннего Божественного процесса творчества космоса, движения в Троичности Божества, рождение в Боге – человека»… «Легко может явиться желание истолковать такую религиозную философию, как а-космизм. «Мир» для моего сознания призрачен, не подлинен. Но «мир» для моего сознания некосмичен, это – некосмическое, a-космическое состояние духа. Космический, подлинный мир есть преодоление «мира», свобода от «мира», победа над «миром».
Не хочет ли Бердяев сказать, что «человек начинается только с Наполеона, а до него были – людишки, т. е. не только не Наполеон, но полная противоположность человеку – Наполеону. Эта игра строчными и прописными буквами, «кавычками» и «без кавычек» утомляет и пробуждает смешливые вопросы даже когда и не хотелось бы смеяться.
Старые мыслители, старые великие философы писали как-то монотонно: что ни слово, что ни «строка дальше» прибавляет мысль, и эта мысль не забывалась автором, не могла забыться и читателем. Можно сказать, циклопы-философы писали какими-то циклопическими камнями громадной величины, – и их не могло разрушить время. Вот Пифагор назвал мир «Космосом», – 2
/
тысячи лет не могут забыть определения. Между прочим, это происходило и оттого, что очень мало писали. Писали – под старость, как последнее «заключенье» богатой опытом, наблюдением и мудростью жизни. Теперь пишут чрезвычайно много и, главное, начинают писать чрезвычайно рано. И Бердяев – из числа довольно плодовитых писателей.
Путаница его между миром и миром, зубовный скрежет против мира и «аллилуйя» миру, может быть, и имеет кое-что основательное, но именно – кое-что. Действительно, «мы наблюдаем, что нельзя встретить человека, который одобрял бы все сплошь, радовался бы всему сплошь, как бы он ни был настроен оптимистично, сколько бы он ни называл себя пантеистом. «От иной хари стошнит – какой ни держись философии»; это – если говорить по-русски. Платон – философ, хотя утверждал, что «есть и идея низкого, мелочного, пошлого, – даже есть идея порочного», и иллюстрировал для слушателей свою мысль тем, что «есть и идея голоса», – тем не менее на деле и перед лицом своим решительно не выносил афинской охлократии, определенно враждовал с нею, определенно хотел ее гибели – и ездил к тирану Дионисию Сиракузскому ради государственных целей и вообще политических соображений. Всепрощающий Христос, «благословляющий клянущих Его», тем не менее не благословил иерусалимских фарисеев. Серафим Саровский отвернулся и не захотел беседовать с одним будущим декабристом, приехавшим к нему в хижину «поговорить». Он вне сомнения почувствовал при взгляде на лицо его («прозорливец») то гордое, самонадеянное начало души, то темное и высокомерное начало, с которым «праведному простецу» не для чего разговаривать. «Декабрист на завтра» очевидно хотел скорее поучить его, чем поучиться от него. И так, нет человека, который бы не «отрицал»: и странно, откуда же это отрицаемое в конце концов взялось, если все «истекло от Бога» (творческий акт).
Таким образом, по-видимому, смешное «мир» и мир Бердяева – существует, не иллюзия.
Но он совершенно не разграничивает их, – у него нельзя понять, в чем же дело? Сообразно героическому характеру всей книги Бердяева, приписывающей к творчеству, и согласно некоторым его обмолвкам, он как будто в мир без кавычек включает одни крупные калибры человеческой природы, – он хочет разделить бытие на «космос», в котором живут и созидают гиганты от Наполеона до Якова Беме, и на «неукрашенный мир», где живуч чиновная мелочь, религиозные «буржуа» со своим стереотипом молитв, церковного кругооборота и обрядности, со своим «смиренным подвигом терпенья», к которому повсюду Бердяев высказывает величайшее отвращение. Если это – так, то это вызывает в нас глубочайший протест, и книга его действительно «манифейская и нисколько не «христианская». Во-первых: тогда зачем же «всуе призывать Христа» (а Бердяев его призывает, именуег, никакого не имеет вида, что он «более не христианин»)? Христос до того ясно сказал, что Он вверяет свое Царство «нищим духом», «чистым сердцем», «миротворцам», «изгнанным правды ради», – что тут переиначивать никак невозможно и переиначивать никому не дадут, – ни Якову Беме, ни Эккорту, ни Бердяеву. И это как ввиду определенности слова, так и еще по практическо-исторической причине: уже так верили люди две тысячи лет и, именно этому поклонившись, приняли венцы мученичества, И решительно не ради какого Якова Беме и не ради какого Бердяева, ни Церковь или все человечество не скажет: «Эти венцы они не заслужили, ибо ошиблись, не так совсем поняв Христово учение». Нет, таких шуточек в истории нельзя говорить. Кровь, – это всегда слишком серьезно.
Это – одно соображение, опирающееся на бесповоротное ясное слово Христа. Другое соображение опирается на одно великое, лучшее приобретение русской культуры. Дело в следующем. От времен Пушкина и Лермонтова и до времени Толстого и Достоевского русская душа и русская культура глубоко вжилась первоначально, а затем и глубоко же извергнула из себя идеал «величавого», «демонического», «байронического». Они слишком дорого стоили русской душе; они слишком глубоко ранили русскую душу; они слишком многих «родных наших» – убили. Можно сказать, ни в какой литературе «байронические идеалы» не были пережиты так едко, как у нас, – может быть, от нашей мечтательности, может быть, от нашей доверчивости и простодушия. На Западе об этом только «читали», а у нас сделали «опыт пожить»… И, увы, – запахло горем, запахло кровью. И после почти векового колебания Русь вынесла могучее решение: «нет».
Бердяев этого не говорит ясно, но, по-видимому, он крадется бесшумно к реставрации этих именно «байронических» и «демонических идеалов», – только перенеся их из сферы общества и «литературных побасенок» в область страшно ответственную и серьезную – церкви, религии и религиозного подвига. Скажем, крупными и конкретными словами: на место подвига Серафима Саровского, подвига столь глубоко бессловесного и «не украшенного», он хочет воздвижения в Русской Церкви, воздвижения совершенно другого идеала и других лиц, в роде Блаженного Августина, в роде Боссоэта с его начертанием первой «Всемирной истории». Словом, он хочет «видности» и «громкого слова». Ведь русские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского – действительно были куда как не речисты. Они не оставили вовсе книг. Бескнижность русских святых – изумительна. Они только оставили памяти народной лицо свое. Но увы: всякая книга – оспорима, а вот лицо – не оспоримо. И «лица» наших святых никто не оспорит и никогда никто даже не пытался оспорить. Лицо же это одно ясно говорит: «Не хочу беса и ничего бесовского. Я – с Богом и с человеками, с простотою их и со скорбью их». «Приобретение русской культуры XIX века» глубочайше совпадает (и даже только повторяет) – с основным приобретением русской Церкви. Которое и заключается в этом: Церковь выставила народу для поклонения несколько лиц, их «бесовщина» была так глубоко исключена, а «божественное» к ним так приближало, как этому не удалось случиться ни в одной церкви.
«Святые» – вот и весь «подвиг Русской Церкви».
Да. Но он – бесконечен. Русский народ уже не заблудится, – и не только сейчас, но и никогда, – имея перед собою эти именно лица. Ну, – и хорошенькие, кое-какие о них рассказцы, «Патериков», «Четий-Миней» и разных «Житий». И не заблудится, – имея их перед собою на иконах, молясь им.
Но почему же ясно и отчетливо об этом не говорит Бердяев? Тогда бы ясно было, что он разумеет под мiром и «миром», и почему «Mip» украшенный», «космос» – он противополагает «мирскому» и столь худому. Он говорит, собственно, о католическом типе христианства, призывая к нему и вознося его на необыкновенную высоту сравнительно с «изукрашенным», – без мадонн и без красноречия, – православием. Вот где корень и сущность его «пелагианства». После попыток Чаадаева и Влад. Соловьева мы имеем третью попытку. Не продолжаем речей, – ибо речи за нашими богословами.
М.В. 1916. 27 мая.
Идея «мессианизма»
«Почитаешь историю, понаблюдаешь за усилиями в ней отдельных народов, и увидишь, до чего много в ней положено усилий на то, чтобы стать «на первое место» среди народов, на самое выпуклое, переднее место; чтобы вести «за собою», «вслед себя» другие народы. Явление таких усилий обыкновенно зовется «мессианизмом», по имени собственно «мессианизма» у евреев. «Мессия может родиться только из нашего народа», – говорили древние пророки израильские; и масса еврейская ожидала в красоте и силе, прежде всего царства, с царским величием, с царским достоинством. Известно, однако, что он пришел совсем с другой стороны и в другом виде. «И биен бысть», «и распят бысть». Греки не знали мессианизма, не звали его. В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел. Вообще тут есть кое-что, следующее поговорке: «Где не думал, там и нашел». Римляне тоже никогда не за пинались мессианизмом: но у них это «вышло» в сфере объединения народов всего тогдашнего исторического горизонта. «Orbis terra rum»[227 - «Земной круг» (лат.).] – факт римской истории. Позднее к этому стремились и этого почти достигли римские папы. Но именно «почти»… Вторжение французов в Италию, перенесение папского престола в Авиньон, на юг Франции, и затем реформация сокрушили католицизм в этих усилиях. У французов почему-то никогда не было мессианизма, и, может быть, причина здесь кроется в том, что как в эпоху королей и маркизов, так и во вторую эпоху’ санкюлотов и Бонапарта французы ощущали себя достаточно «мессианскими». У них сиял «каждый день», а не «завтра», и «мессии» можно сказать, рождались ежедневно, то во дворцах, то под лавкой, то, как король солнца, то, как бездомный Руссо. У поляков был «мессианизм» Товянского и отчасти Мицкевича: чахоточная мечта на «безрыбьи» вытащить из моря когда-нибудь «кита». У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о «народе-Богоносце», и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину».
(Н. Бердяев)
Удивительно, что никому не пришло на ум, «как это место опасно». Т. е. как опасно вообще и всемирно стремиться к первенству, исключительности, господству. Об этом мы скажем потом, а сейчас договорим о последнем мессианизме.
Это – Германия и теперешняя война.
Германия решительно и деловым образом потребовала себе первенства во всемирной цивилизации, сорок лет подготовляясь к войне и, начав войну с потерей миллионов людей и убивая миллионы людей у соседних народов, во имя того, что никто так не умеет выделывать зубных щеточек, как «германский человек». Если взять зубную щетку, сделанную русским, то щетина вываливается, как только вы взглянули на нее; если ее сделал итальянец, то щетина вываливается, когда вы по ней провели рукой. И у француза или англичанина вываливается месяца через четыре после употребления щетки. Но немец, долго размышляя, сделал, наконец, такую щетку, из которой щетина никогда не вываливается. Он назвал ее «вечною щеточкою» и прибавил: «для универсального употребления». Он взял на нее патент у отечества, повез ее в Англию, привез ее во Францию, не говоря уже о России и Италии, о Турции и Румынии. Причем везде решительно увидели, что из германской зубной щеточки и вообще из германских щеток всяких сортов, величин и предназначений щетина действительно никогда не вываливается.
Кайзер это сообразил, нация это сообразила. Все сделали «умозаключение», что они станут самым богатым народом в свете, если зубные щетки, гигроскопическую вазу, оптические стекла, всякие медикаменты, наконец, всякие вообще инструменты, машины и технику будут поставлять одни на весь свет. На Россию, на Америку, на Китай. Наконец, даже на Францию и Англию. «Мы забьем всех. Но раньше надо всех побить и принудить брать и пользоваться единственно вечною зубною щеткою made in Germany». Война, как обнаружилось решительно и окончательно, ведется за техническое, коммерческое и промышленное подавление Германиею всего света. Но как «предпосылка» техники и промышленности – политическое преобладание Германии во всем свете. «Помилуйте, мы изобрели сальварсан. У нас и Эрлих и Кох. У нас Гельмгольц, Бунзен и Моммзен. Разве это не права на управление миром? Умственные права. Мы живем в век разума, опираемся на разум, у нас разум – первый в мире. И мы будем организовывать человечество». А все началось с зубной щеточки. Но немец не был бы немцем, если бы не мог сделать «умозаключения» от маленькой щетки для гигиены до пределов вселенной.
Место это, я заметил, опасное. Оно кружит головы, рождает чары; рождает силы, творит положительное безумие. Народы, порывающиеся сознательно к «первому месту на земле», начинают совершать явно безумные поступки, очевидные со стороны, но нисколько не видные самим носителям «всемирной миссии». И причина понятна, сказать ли космологически, сказать ли религиозно. Космологически – вот какое выражение: ведь все-таки «земля» наша – маленькая планетка. Ее окружают миры звезд – планет гораздо больших и вероятно более интересных и занимательных. Что такое «я», пишущий’ «эту статью» в городе «Петрограде», на такой-то улице – перед Сатурном, Юпитером, Сириусом и проч.? А между тем «мессианизм» рождается именно из таких и подобных статеек, – из «заманчивой мечты», которая вдруг начинает «кружить головы». Дело, очевидно, и должно кончиться таким «головокружением», весьма болезненным, и не больше. Настоящее обаяние исходит на человека, как и на всю нашу планету, из звезд, из неведомого и беспредельного мира, в котором мы не понимаем ни начал, ни концов. Это – космологически. А религиозно – еще яснее. «Первое место», очевидно, принадлежит Богу и не принадлежит и никогда не должно принадлежать человеку, или группам его, народам. Отсюда-то и объясняется безумие. Мы собственно хотим сесть на «Божье место». Хотим Престола Божия для себя. И, естественно, летим «вверх тормашками».
Отсюда великолепное поползновение к лени. Оговорюсь и объяснюсь. Сам я довольно деятельный человек (сколько написал за жизнь), но с великим вниманием и все возрастающим изумлением всматриваюсь в совершенно противоположное моей натуре начало – лень. Мне приходит на ум, что в «лени» содержится метафизический принцип Руси, и «лень» – то именно нас и охраняет от самых ядовитых зол. Спора нет, что «лень» – дурна, плоха, несносна. При ней – вечно «все не устроено». Вот и развод мой любимый – «стоит на месте». Судьи отпускают «с Богом» – после ужасных преступлений. Все это отвратительно, пакостно, и почти «так жить нельзя».
Готов крикнуть: «Не могу молчать», но удерживаюсь и потихоньку начинаю размышлять:
Ведь жить-то все-таки, однако, «можно». В сущности – «можно». И как ни сорт улица, ни дорога квартира, в театре играют отвратительно, извозчика нигде не найдешь, и прочие «несносности»: по дело в том, чаю в сих мерзопакостных условиях все-гаки «живешь», а к вечеру даже пабежиа’ кой-какое удовольствишко. Хорошо. Но папы в Авиньоне? Вот кому было плохо. А оттого, что хотели сесть «в Рим» на «первое место». Бог их и чебурахнул. Каково пролететь от Рима до провинциального Авиньона? Это знает тот папа, который «летел». Русские архиереи решительно никогда этого не испытывают, ибо когда «летят», то всегда с небольшой высоты. И вообще «больших высот» не надо в мире. Опасно. Страшно. Тревожно.
В сущности, – обманчиво и лукаво. «Хотел сесть на престоле, а и стула не оказалось!..»
Вот отчего и «смирение» Достоевского собственно лукаво же. «Чего захотел, гордец: стать смиреннее всех. Но смиреннее всех был один Христос, и тайное поползновенье Достоевского было подставить любимому своему народу Христово место, Христов престол». Это явная «хлыстовщина», по определению владык – «ересь».
Нет, «лень» вернее. Лень – спасительнее. Ее ни под какую «ересь» не подведешь, ибо суть ее заключается в том, чтобы «посидеть у окошечка и подождать». «А к вечеру позабавимся чаем. При таком случае сон будет ясен, без выкриков, – и так, с легкими и безгрешными сновидениями».
Сна «леди Макбет» не будет. На «престоле» же непременно будут «сны леди Макбет». Это – ужасное, поистине ужасное место. Я не понимаю, как люди не боятся его.
Не величавое и мирообъемлющее «смирение», а простая частная скромность, личная скромность, – вот что хорошо. Дай Бог и этого добиться, но «этому» очень способствует, если «с ленцой». Зачем нам и куда нам торопиться? Больше жизни все равно не проживешь, а «свою жизнь» всякий, наверное, проживет. Я не говорю о времени войны: теперь мы все торопимся и так должно, ибо иначе нам неприятель сядет на шею и, черт его дери, заставит делать тоже его окаянные «зубные щетки»… «Чтобы разбогатеть», видите ли! Но я не желаю быть очень богат. А посему сделаю сам себе одну щетку. Кой-какую, ненадолго. И потом еще сделаю, и опять. Без всякой «универсальности»
Место Руси, вера Руси – вечная относительность. «Жизнь для жизни нам дана», т. е. для самого процесса жизни, который ей-ей хорош, и не нужно к ней никакого «заключения». «Пусть тянется, матушка, как степная дороженька, нигде не кончаясь, нигде не начинаясь». И – «эй вы, бегите, кони, только не растрясите меня».
Я хотел говорить о новой книге – огромной книге – нашего философа и публициста Н. А. Бердяева «Смысл творчества», недавно появившейся в Москве. Там он зовет Россию и, стало быть, всех нас к «религиозному творчеству». К религиозному героизму, к религиозному величию… Вспомнил пап, Лютера, испугался и от страха заснул. Были самые легкие сновидения. Проснулся и написал эти немногие строки, – в том смысле, что «боюсь», и что это не «удел Руси».
Доселе – все знакохмо нам из церковных книг. То же самое скажет любой проповедник с кафедры. Где же философ?
«Но само умение о грехе выродилось в рабство у призрачной необходимости. Говорят: ты грешное, падшее существо и потому не дерзай вступать на путь освобождения духа от «мира», на путь творческой жизни духа, неся бремя послушания последствиям греха. И остается дух человеческий скованным в безвыходном кругу. Ибо изначальный грех и есть рабство, несвобода духа, подчинение дьявольской необходимости, бессилие определить себя свободным творцом, утеря себя через утверждение себя в необходимости «мира», а не в свободе Бога. Путь освобождения от «мира» для творчества новой жизни и есть путь освобождение от греха, преодоление зла, собирание сил духа для жизни божественной. Рабство у «мира», у необходимости и данности есть не только несвобода, но и узаконение и закрепление нелюбовного, разодранного, некосмического состояния мира. Свобода – любовь. Рабство – вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды «мира» в космическую любовь есть путь победы над грехом, над жизнью, природой. И нельзя не допускать до этого пути на том основании, что греховная человеческая природа и погружена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и нравственного суждения в том – оставлять человека в низинах этого «мира» во имя послушания последствиям греха. На почве этого сознания растет постыдное равнодушие к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в собственную греховность рождает двойные мысли, – вечные опасения смешения Бога с дьяволом, Христа – с антихристом. Эта упадочность души, к добру и злу постыдно равнодушной, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до игры в двойные мысли. Упадочная душа любит кокетничать с Люцифером, любит не знать, какому Богу она служит, любит чувствовать страх, любит испытывать опасность. Эта упадочность, расслабленность, раздвоенность духа есть косвенное порождение христианского учения о смирении и послушании, – вырождение этого учения. Упадочному двоению мыслей и расслабленному равнодушию к добру и злу нужно решительно противопоставить мужественное освобождение духа и творческий почин. Но это требует сосредоточенной решимости освободиться от ложных, призрачных наслоений культуры и ее накипи, – этого утонченного плена у «мира».
Прежде всего – глубокий упрек философской книге: автор высказывает, а не доказывает. Слышим проповедника, но не видим философа. Но и самое «высказываемое» – тускло, бледно. Остановимся на минуту: есть «высказывания» до того могущественные по силе льющегося в них духа, – льющегося, как раскаленный металл, который горяч и, однако, вместе с тем много весит, сильно давит, – что душа читателя или слушателя принимает слово без рассуждений, без доказательств и уяснений, – именно подавленная этою «массою льющегося металла». Державин хорошо выразил это в «Водопаде»:
Алмазна сыплется гора…
И Лермонтов в «Дарах Терека», в словах о Каспии:
И старик во блеске власти
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза…
Эти слова о Каспии, в стародавние годы, как-то всегда приходили мне на ум как сравнения, когда я думал о старике Каткове. Он не доказывал, а подавлял; он не разъяснял, а приказывал; и не послушаться его людям власти, людям значительным не было никакой возможности. Это примеры нам близкие, нам еще памятные, – личного и словесного обаяния. Так как, однако, дело идет о религиозных темах, о темах греха и искупления, – то в этой исключительной и высокой сфере мы имеем один давний пример, где, можно сказать, слово раздавило мир. Это – апостол Павел. Хочется, сказать, «он повелевал и самым громам»; хочется сказать: «словом он утишал одни бури и словом он поднимал другие бури». Но – не доказывал. Где и какие особенно сложные, длинные доказательства. В «доказательствах» нуждался Платон, Сократ нуждался, Аристотель – слишком нуждался. Все это – прозаики души человеческой. Но зачем эти «доказательства» Павлу, когда он говорил и хотел и знал правду и, кроме правды, душа его ничего не хотела, и слушавшие его и видевшие перед собою его знали, что ложь никогда не ночевала у него даже в соседней комнате, а не то чтобы угнездиться в дуле его…
И вот «таким», – о, слишком немногим даже во всемирной истории, – «доказательства» не нужны, задерживают, охлаждают, – охлаждают и говорящего, и слушающего. «Не надо доказательств!» – кричит слушатель, горя сердцем… Бердяев, конечно, никакого «горения сердца» своею прозою не пробуждает, и читатель ему кричит: «Докажи!».
А Бердяеву и доказать нельзя. Что он здесь напутал, кого упрекает? По-видимому, в последних строках он подразумевает «непротивленцев – толстовцев», которых ведь так мало в общем и все они в общем так бесталанны, что и говорить о них не стоит. Что же «преодолевать» явное бессилие? Оно само падает, – ранее всякой борьбы. Но Бердяев не ясен и не называет имен; по употреблению слова «упадочники» и по противоположению «Христа» и «Антихриста» можно здесь разуметь и декадентов, с их корифеем Мережковским. Тоже «сила», еще слабее толстовцев. Нет: Бердяев как-то обобщенно говорит о «заразе, охватившей мир», – «пассивно подчиниться последствиям греха» – говорит об этом, как о «последствии христианства», – говорит о почве «церковной традиции». В таком случае, это совершенно не верно, неправильно. Решительно со времен древнейших и до нашего времени без какого-либо перерыва именно этой традиции, святые христианства и учителя Церкви звали всех людей к подвигу и подвижнической жизни, звали «выйти из мира», разобщиться с ним, даже до удаления в пустыню, в лес, на гору. Неужели можно поверить, что Бердяев никогда не слыхал о «горе Афонской», не слыхал стиха наших старообрядцев: «О, мать, великая пустыня, прими меня в себя», и даже самое наименование монастырей «пустынью» указывает на эту вековую и тысячелетнюю традицию. И неужели все это легче его странички «Введения»? Поистине, текла река в море: над нею прошел дождичек; и дождевые капли оттого, чао они падали «сверху», вдруг бы подумали: «вот теперь вода стала настоящей, мокрою и река дотечет до моря». Она решительно всегда текла в море и дотекла бы и дотечет до моря без всякого дождя, даже самого крупного. Просто это «не нужно», «лишне».
И что за нападки на «мир», и противопоставление в «бытии» (общее родовое понятие) ему «космоса». «Космосом», т. е. «украшенным», «прекрасным» первому Пифагору пришло на ум назвать мир; и философия поистине может гордиться, что это благородное имя дано было ему не поэтом, не жрецом, не священником и, наконец, даже не в священной какой-нибудь книге, а именно из недр философии, на самой ее первой заре, поднялся человек и сказал: «Как прекрасно все… Это не только созданье чье-то, но это – какая-то красота, на меня сыплющаяся… Это – не вещь и не бытие, а это – космос»… Прекрасно. Прекрасное имя. Прекрасный человек. Сказал ли это, однако, он после выкладок ума, после доказывания? Нет: в самом слове «красота» содержится доказательство происхождения этого слова. Это – не человек сказал, это глас ему сказал. Точнее – глас внушил сказать; но философ сперва подумал, а затем подтвердил впечатление гласа. Все «так связано в мире, так в нем гармонично», – «впадинки, (говоря в переносном смысле), так соответствуют горкам, а горки – впадинкам», что именно в этом сочетании, в каком они даны в действительности, они превращают мир в величайшее удобство, правильность и красоту! И прямо нудишься сказать, нудишься часто: «даже и сама смерть, как она ни ужасна, как единичный случай, как она не вырывает у нас каждый раз рыдания, необходима, однако, в общем, ибо без нее мир явил бы лицо такой ужасной дряхлости, такого старческого изнеможения!!! – Тогда, как при смерти он вечно юн и молод, ибо только при ней стало возможно и рождение, стало возможно вечное омоложение планеты и всего на ней живущего!».
Итак, это противоположение в «бытии» «мира» и «мирского» «космосу» противоречит тому самому первоначальному и великому уму, который впервые произнес благородное слово «космос»; и, кроме того, оно содержит в себе грех некоторой тщеславной гордыни, презрительно смотря на «мелочи жизни» с высоты какого-то «духа» или каких-то «великих вещей». Тогда как «гармония» и «космос» или «украшенность» мироздания особенно-то и открывается в рассмотрении его подробностей, «мелочей», т. е. в рассмотрении мелких, мало видных частей мирового механизма. Притом «Сотворивый мир» настолько бесконечно превосходит сотворенные Им вещи, что перед Ним величайшая из них и самомалейшие уравниваются. Вообще же грешна в мире самая эта улыбка к «малому», самое это слово: «ты – мало»; грешна эта высокомерность, брезгливость, пренебрежение к вещам…
Это – одна часть возражений Н. А. Бердяеву. Другая – еще горше: он говорит, что мир есть «разлад», «ссора» и приписывает это «греху» и «слабости» мира. Он хочет из «разлада» выставить на лоно какого-то «покоя», где (посмеюсь над ним) сон и сытость философствующего буржуа…
Что же: он отрицает, что мало внедрились в «мир» и «космос» мудрецы от Гераклита до Гегеля, которые все сказали, что в «сварливости» мира и в его кажущемся «разладе» лежит корень его оживления, корень того, что «sein» переходит в «verden», что «бытие» развертывается в «генезис»? Да что нам философы, когда перед нами Бог, который через действие на планету сил «центробежной» и «центростремительной» устроил их бег на «орбите», уже наверно прекраснейшей и твердейшей, чем всякая метафизика… Таким образом, то, что Н. А. Бердяев зовет «распрей» и «разладом» мира есть сочетание так сказать «коытрофорсов», наиболее крепко держащих мировую тьму. Но зачем «контрофорсы»? Зачем не просто лежать? Но из лежанья ничего не выйдет, кроме лежанья, тогда как по какому-то мотиву Вседержитель хотел, чтобы мир шел, жил, бежал, летел… Верно и существо Вседержителя – летучее, летящее, ибо Он всему дал полет. И вот силы «центробежная» и «центростремительная» или, в истории, «сила прогрессивная» и целый ряд сил – «охранильные», «консервативные», «космосы», «регрессивные», которые все не уничтожают, но регулируют одну «прогрессивную силу». Ибо правь она одна в истории – и народы, царства, законы разлетелись бы в пыль.
Что же говорит Бердяев о творчестве?
«Творческий акт всегда есть освобождение и преодоление. В нем есть переживание силы. Обнаружение своего творческого акта не есть крик боли, пассивного страдания, не есть лирическое излияние. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть побеждены творчеством. Творчество по существу есть выход, исход, победа. Жертвенность творчества не есть гибель и ужас. Сама жертвенность – активна, а не пассивна. Личная трагедия, кризис, судьба переживаются, как трагедия, кризис, судьба мировая. В этом – путь. Исключительная работа о личном спасении и страх личной гибели – безобразно эгоистичны. Исключительная погруженность в кризис личного творчества и страх собственного бессилия – безобразно самолюбивы. Эгоистическое и самолюбивое погружение в себя означает болезненную разорванность человека и мира. Человек создан Творцом гениальным (не непременно гением) и гениальность должен раскрыть в себе творческой активностью, победить все лично-эгоистическое и лично-самолюбивое, всякий страх собственной гибели, всякую оглядку на других… Отъединенная подавленность сама по себе есть уже грех против божественного признания человека, против зова Божьего, Божьей потребности в человеке. Только переживающий в себе все мировое и все – мировым только победивший в себе эгоистическое стремление к самоспасению и самолюбивое рефлектирование над своими силами, только освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть творцом и лицом… Путь творческий – мертвенный и страдательный, но он всегда есть освобождение от всякой подавленности. Ибо мертвенное страдание творчества никогда не есть подавленность. Всякая подавленность есть оторванность человека от подлинного мира, утеря микрокосмичности плен у «мира», рабство у данности и необходимости. Природа всякого пессимизма и скептицизма – эгоистическая и самолюбивая. Сомнение в творческой силе человека всегда есть самолюбивая рефлексия и болезненное «я» – чество (т. е. бесконечный эгоизм только своего «я»). Смирение и сомневающаяся скромность там, где нужна дерзновенная уверенность и решимость, всегда есть замаскированное метафизическое самолюбие, рефлектирующая оглядка и эгоистическая отъедипенность».
И все в этом роде… «свобода от мира» есть соединение с подлинным миром, – «космосом»… Право: нет двух вещей, также ненавидящих друг друга, как мир и «лир» Бердяева. А то же десятеричное «i» в обоих, и тот же твердый на конце знак в обоих. В конце концов – он уже есть или кажется самому себе ужасным еретиком:
«Я знаю», – пишет он в заключении, – «что меня могут обвинить в коренном противоречии, раздирающем все мое мирочувствие и все мое миросозерцание. Меня обвинят в противоречивом совмещении крайнего религиозного дуализма с крайним религиозным монизмом. Предвосхищаю эти нападения. Я исповедую почти монический дуализм. Пусть так: «Мир» есть зло, он безбожен и не Богом сотворен. Из «мира» нужно уйти, преодолеть его до конца, «мир» должен сгореть от аримановой природы. Свобода от «мира» – пафос моей книги. Существует объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность – аримановы. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в Божественной любви, жизнь в Плероме. И я – не исповедую почти пантеистический монизм. Мир Божественен по своей природе. Человек Божественен по своей природе. Мировой процесс есть самооткровение Божества, он совершается внутри Божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу? Все, совершающееся с человеком, совершается с Богом. Не существует дуализма Божественной и внебожественной природы, совершенной трансцендентности Бога миру и человеку. Эта антипатия дуализма и монизма у меня до конца сознательна и я принимаю ее как непреодолимую в сознании и неизбежную в религиозной жизни. Религиозное сознание по существу антипатично. В сознании нет выхода из вечной антипатичности трансцендентного и имманентного дуализма и монизма. Антипатичность не в сознании, не в разуме, а в самой религиозной жизни, в глубине самого религиозного опыта. Религиозный опыт до конца изживает мир, как совершено вне Божественный и как совершенно Божественный, – изживает зло, как отпадение от Божественного смысла и как имеющее имманентный смысл в процессе мирового развития. Мистический тезис всегда давал антиномические решения проблемы зла, – всегда в нем дуализм сочетался с монизмом. Для величайшего из мистиков Якова Беме зло было в Боге и зло было отпадением от Бога, в Боге был темный исток и Бог не был ответствен за зло. Все почти мистики стоят на сознании имманентного изживания зла. Трансцендентная точка зрения всегда есть предпоследнее, а не последнее. И переживание зла периферично и экзотерично в религиозной жизни. Глубже, эсотеричнее переживание внутреннего расчленения в Божественной жизни, богооставленности и богопротивления, как жертвенного пути восхождения… Поразителен парадокс религиозной жизни: крайний трансцендентизм порождает оппортунистическое приспособление, сделки со «злом» мира, – а зрелый имма-нентизм порождает волю к радикальному выходу в Божественную жизнь духа, радикальному преодолению «мира». Зрелый имманентизм освобождает от подавленности злом «мира». «Мир сей» есть плен у зла, выпадение из Божественной жизни, «мир» должен быть побежден. Но «мир сей» есть лишь один из моментов внутреннего Божественного процесса творчества космоса, движения в Троичности Божества, рождение в Боге – человека»… «Легко может явиться желание истолковать такую религиозную философию, как а-космизм. «Мир» для моего сознания призрачен, не подлинен. Но «мир» для моего сознания некосмичен, это – некосмическое, a-космическое состояние духа. Космический, подлинный мир есть преодоление «мира», свобода от «мира», победа над «миром».
Не хочет ли Бердяев сказать, что «человек начинается только с Наполеона, а до него были – людишки, т. е. не только не Наполеон, но полная противоположность человеку – Наполеону. Эта игра строчными и прописными буквами, «кавычками» и «без кавычек» утомляет и пробуждает смешливые вопросы даже когда и не хотелось бы смеяться.
Старые мыслители, старые великие философы писали как-то монотонно: что ни слово, что ни «строка дальше» прибавляет мысль, и эта мысль не забывалась автором, не могла забыться и читателем. Можно сказать, циклопы-философы писали какими-то циклопическими камнями громадной величины, – и их не могло разрушить время. Вот Пифагор назвал мир «Космосом», – 2
/
тысячи лет не могут забыть определения. Между прочим, это происходило и оттого, что очень мало писали. Писали – под старость, как последнее «заключенье» богатой опытом, наблюдением и мудростью жизни. Теперь пишут чрезвычайно много и, главное, начинают писать чрезвычайно рано. И Бердяев – из числа довольно плодовитых писателей.
Путаница его между миром и миром, зубовный скрежет против мира и «аллилуйя» миру, может быть, и имеет кое-что основательное, но именно – кое-что. Действительно, «мы наблюдаем, что нельзя встретить человека, который одобрял бы все сплошь, радовался бы всему сплошь, как бы он ни был настроен оптимистично, сколько бы он ни называл себя пантеистом. «От иной хари стошнит – какой ни держись философии»; это – если говорить по-русски. Платон – философ, хотя утверждал, что «есть и идея низкого, мелочного, пошлого, – даже есть идея порочного», и иллюстрировал для слушателей свою мысль тем, что «есть и идея голоса», – тем не менее на деле и перед лицом своим решительно не выносил афинской охлократии, определенно враждовал с нею, определенно хотел ее гибели – и ездил к тирану Дионисию Сиракузскому ради государственных целей и вообще политических соображений. Всепрощающий Христос, «благословляющий клянущих Его», тем не менее не благословил иерусалимских фарисеев. Серафим Саровский отвернулся и не захотел беседовать с одним будущим декабристом, приехавшим к нему в хижину «поговорить». Он вне сомнения почувствовал при взгляде на лицо его («прозорливец») то гордое, самонадеянное начало души, то темное и высокомерное начало, с которым «праведному простецу» не для чего разговаривать. «Декабрист на завтра» очевидно хотел скорее поучить его, чем поучиться от него. И так, нет человека, который бы не «отрицал»: и странно, откуда же это отрицаемое в конце концов взялось, если все «истекло от Бога» (творческий акт).
Таким образом, по-видимому, смешное «мир» и мир Бердяева – существует, не иллюзия.
Но он совершенно не разграничивает их, – у него нельзя понять, в чем же дело? Сообразно героическому характеру всей книги Бердяева, приписывающей к творчеству, и согласно некоторым его обмолвкам, он как будто в мир без кавычек включает одни крупные калибры человеческой природы, – он хочет разделить бытие на «космос», в котором живут и созидают гиганты от Наполеона до Якова Беме, и на «неукрашенный мир», где живуч чиновная мелочь, религиозные «буржуа» со своим стереотипом молитв, церковного кругооборота и обрядности, со своим «смиренным подвигом терпенья», к которому повсюду Бердяев высказывает величайшее отвращение. Если это – так, то это вызывает в нас глубочайший протест, и книга его действительно «манифейская и нисколько не «христианская». Во-первых: тогда зачем же «всуе призывать Христа» (а Бердяев его призывает, именуег, никакого не имеет вида, что он «более не христианин»)? Христос до того ясно сказал, что Он вверяет свое Царство «нищим духом», «чистым сердцем», «миротворцам», «изгнанным правды ради», – что тут переиначивать никак невозможно и переиначивать никому не дадут, – ни Якову Беме, ни Эккорту, ни Бердяеву. И это как ввиду определенности слова, так и еще по практическо-исторической причине: уже так верили люди две тысячи лет и, именно этому поклонившись, приняли венцы мученичества, И решительно не ради какого Якова Беме и не ради какого Бердяева, ни Церковь или все человечество не скажет: «Эти венцы они не заслужили, ибо ошиблись, не так совсем поняв Христово учение». Нет, таких шуточек в истории нельзя говорить. Кровь, – это всегда слишком серьезно.
Это – одно соображение, опирающееся на бесповоротное ясное слово Христа. Другое соображение опирается на одно великое, лучшее приобретение русской культуры. Дело в следующем. От времен Пушкина и Лермонтова и до времени Толстого и Достоевского русская душа и русская культура глубоко вжилась первоначально, а затем и глубоко же извергнула из себя идеал «величавого», «демонического», «байронического». Они слишком дорого стоили русской душе; они слишком глубоко ранили русскую душу; они слишком многих «родных наших» – убили. Можно сказать, ни в какой литературе «байронические идеалы» не были пережиты так едко, как у нас, – может быть, от нашей мечтательности, может быть, от нашей доверчивости и простодушия. На Западе об этом только «читали», а у нас сделали «опыт пожить»… И, увы, – запахло горем, запахло кровью. И после почти векового колебания Русь вынесла могучее решение: «нет».
Бердяев этого не говорит ясно, но, по-видимому, он крадется бесшумно к реставрации этих именно «байронических» и «демонических идеалов», – только перенеся их из сферы общества и «литературных побасенок» в область страшно ответственную и серьезную – церкви, религии и религиозного подвига. Скажем, крупными и конкретными словами: на место подвига Серафима Саровского, подвига столь глубоко бессловесного и «не украшенного», он хочет воздвижения в Русской Церкви, воздвижения совершенно другого идеала и других лиц, в роде Блаженного Августина, в роде Боссоэта с его начертанием первой «Всемирной истории». Словом, он хочет «видности» и «громкого слова». Ведь русские, от Преподобного Сергия Радонежского до Серафима Саровского – действительно были куда как не речисты. Они не оставили вовсе книг. Бескнижность русских святых – изумительна. Они только оставили памяти народной лицо свое. Но увы: всякая книга – оспорима, а вот лицо – не оспоримо. И «лица» наших святых никто не оспорит и никогда никто даже не пытался оспорить. Лицо же это одно ясно говорит: «Не хочу беса и ничего бесовского. Я – с Богом и с человеками, с простотою их и со скорбью их». «Приобретение русской культуры XIX века» глубочайше совпадает (и даже только повторяет) – с основным приобретением русской Церкви. Которое и заключается в этом: Церковь выставила народу для поклонения несколько лиц, их «бесовщина» была так глубоко исключена, а «божественное» к ним так приближало, как этому не удалось случиться ни в одной церкви.
«Святые» – вот и весь «подвиг Русской Церкви».
Да. Но он – бесконечен. Русский народ уже не заблудится, – и не только сейчас, но и никогда, – имея перед собою эти именно лица. Ну, – и хорошенькие, кое-какие о них рассказцы, «Патериков», «Четий-Миней» и разных «Житий». И не заблудится, – имея их перед собою на иконах, молясь им.
Но почему же ясно и отчетливо об этом не говорит Бердяев? Тогда бы ясно было, что он разумеет под мiром и «миром», и почему «Mip» украшенный», «космос» – он противополагает «мирскому» и столь худому. Он говорит, собственно, о католическом типе христианства, призывая к нему и вознося его на необыкновенную высоту сравнительно с «изукрашенным», – без мадонн и без красноречия, – православием. Вот где корень и сущность его «пелагианства». После попыток Чаадаева и Влад. Соловьева мы имеем третью попытку. Не продолжаем речей, – ибо речи за нашими богословами.
М.В. 1916. 27 мая.
Идея «мессианизма»
«Почитаешь историю, понаблюдаешь за усилиями в ней отдельных народов, и увидишь, до чего много в ней положено усилий на то, чтобы стать «на первое место» среди народов, на самое выпуклое, переднее место; чтобы вести «за собою», «вслед себя» другие народы. Явление таких усилий обыкновенно зовется «мессианизмом», по имени собственно «мессианизма» у евреев. «Мессия может родиться только из нашего народа», – говорили древние пророки израильские; и масса еврейская ожидала в красоте и силе, прежде всего царства, с царским величием, с царским достоинством. Известно, однако, что он пришел совсем с другой стороны и в другом виде. «И биен бысть», «и распят бысть». Греки не знали мессианизма, не звали его. В эпоху, однако, от нашествия персов до смерти Александра Македонского, приблизительно века в два, они натворили таких и столько дел, что «мессианизм» в светской и образовательной форме у них как-то сам собою вышел. Вообще тут есть кое-что, следующее поговорке: «Где не думал, там и нашел». Римляне тоже никогда не за пинались мессианизмом: но у них это «вышло» в сфере объединения народов всего тогдашнего исторического горизонта. «Orbis terra rum»[227 - «Земной круг» (лат.).] – факт римской истории. Позднее к этому стремились и этого почти достигли римские папы. Но именно «почти»… Вторжение французов в Италию, перенесение папского престола в Авиньон, на юг Франции, и затем реформация сокрушили католицизм в этих усилиях. У французов почему-то никогда не было мессианизма, и, может быть, причина здесь кроется в том, что как в эпоху королей и маркизов, так и во вторую эпоху’ санкюлотов и Бонапарта французы ощущали себя достаточно «мессианскими». У них сиял «каждый день», а не «завтра», и «мессии» можно сказать, рождались ежедневно, то во дворцах, то под лавкой, то, как король солнца, то, как бездомный Руссо. У поляков был «мессианизм» Товянского и отчасти Мицкевича: чахоточная мечта на «безрыбьи» вытащить из моря когда-нибудь «кита». У русских – мессианизм славянофилов и главным образом Достоевского, сказавшийся в знаменитом монологе Ставрогина о «народе-Богоносце», и в речи самого Достоевского на открытии памятника Пушкину».
(Н. Бердяев)
Удивительно, что никому не пришло на ум, «как это место опасно». Т. е. как опасно вообще и всемирно стремиться к первенству, исключительности, господству. Об этом мы скажем потом, а сейчас договорим о последнем мессианизме.
Это – Германия и теперешняя война.
Германия решительно и деловым образом потребовала себе первенства во всемирной цивилизации, сорок лет подготовляясь к войне и, начав войну с потерей миллионов людей и убивая миллионы людей у соседних народов, во имя того, что никто так не умеет выделывать зубных щеточек, как «германский человек». Если взять зубную щетку, сделанную русским, то щетина вываливается, как только вы взглянули на нее; если ее сделал итальянец, то щетина вываливается, когда вы по ней провели рукой. И у француза или англичанина вываливается месяца через четыре после употребления щетки. Но немец, долго размышляя, сделал, наконец, такую щетку, из которой щетина никогда не вываливается. Он назвал ее «вечною щеточкою» и прибавил: «для универсального употребления». Он взял на нее патент у отечества, повез ее в Англию, привез ее во Францию, не говоря уже о России и Италии, о Турции и Румынии. Причем везде решительно увидели, что из германской зубной щеточки и вообще из германских щеток всяких сортов, величин и предназначений щетина действительно никогда не вываливается.
Кайзер это сообразил, нация это сообразила. Все сделали «умозаключение», что они станут самым богатым народом в свете, если зубные щетки, гигроскопическую вазу, оптические стекла, всякие медикаменты, наконец, всякие вообще инструменты, машины и технику будут поставлять одни на весь свет. На Россию, на Америку, на Китай. Наконец, даже на Францию и Англию. «Мы забьем всех. Но раньше надо всех побить и принудить брать и пользоваться единственно вечною зубною щеткою made in Germany». Война, как обнаружилось решительно и окончательно, ведется за техническое, коммерческое и промышленное подавление Германиею всего света. Но как «предпосылка» техники и промышленности – политическое преобладание Германии во всем свете. «Помилуйте, мы изобрели сальварсан. У нас и Эрлих и Кох. У нас Гельмгольц, Бунзен и Моммзен. Разве это не права на управление миром? Умственные права. Мы живем в век разума, опираемся на разум, у нас разум – первый в мире. И мы будем организовывать человечество». А все началось с зубной щеточки. Но немец не был бы немцем, если бы не мог сделать «умозаключения» от маленькой щетки для гигиены до пределов вселенной.
Место это, я заметил, опасное. Оно кружит головы, рождает чары; рождает силы, творит положительное безумие. Народы, порывающиеся сознательно к «первому месту на земле», начинают совершать явно безумные поступки, очевидные со стороны, но нисколько не видные самим носителям «всемирной миссии». И причина понятна, сказать ли космологически, сказать ли религиозно. Космологически – вот какое выражение: ведь все-таки «земля» наша – маленькая планетка. Ее окружают миры звезд – планет гораздо больших и вероятно более интересных и занимательных. Что такое «я», пишущий’ «эту статью» в городе «Петрограде», на такой-то улице – перед Сатурном, Юпитером, Сириусом и проч.? А между тем «мессианизм» рождается именно из таких и подобных статеек, – из «заманчивой мечты», которая вдруг начинает «кружить головы». Дело, очевидно, и должно кончиться таким «головокружением», весьма болезненным, и не больше. Настоящее обаяние исходит на человека, как и на всю нашу планету, из звезд, из неведомого и беспредельного мира, в котором мы не понимаем ни начал, ни концов. Это – космологически. А религиозно – еще яснее. «Первое место», очевидно, принадлежит Богу и не принадлежит и никогда не должно принадлежать человеку, или группам его, народам. Отсюда-то и объясняется безумие. Мы собственно хотим сесть на «Божье место». Хотим Престола Божия для себя. И, естественно, летим «вверх тормашками».
Отсюда великолепное поползновение к лени. Оговорюсь и объяснюсь. Сам я довольно деятельный человек (сколько написал за жизнь), но с великим вниманием и все возрастающим изумлением всматриваюсь в совершенно противоположное моей натуре начало – лень. Мне приходит на ум, что в «лени» содержится метафизический принцип Руси, и «лень» – то именно нас и охраняет от самых ядовитых зол. Спора нет, что «лень» – дурна, плоха, несносна. При ней – вечно «все не устроено». Вот и развод мой любимый – «стоит на месте». Судьи отпускают «с Богом» – после ужасных преступлений. Все это отвратительно, пакостно, и почти «так жить нельзя».
Готов крикнуть: «Не могу молчать», но удерживаюсь и потихоньку начинаю размышлять:
Ведь жить-то все-таки, однако, «можно». В сущности – «можно». И как ни сорт улица, ни дорога квартира, в театре играют отвратительно, извозчика нигде не найдешь, и прочие «несносности»: по дело в том, чаю в сих мерзопакостных условиях все-гаки «живешь», а к вечеру даже пабежиа’ кой-какое удовольствишко. Хорошо. Но папы в Авиньоне? Вот кому было плохо. А оттого, что хотели сесть «в Рим» на «первое место». Бог их и чебурахнул. Каково пролететь от Рима до провинциального Авиньона? Это знает тот папа, который «летел». Русские архиереи решительно никогда этого не испытывают, ибо когда «летят», то всегда с небольшой высоты. И вообще «больших высот» не надо в мире. Опасно. Страшно. Тревожно.
В сущности, – обманчиво и лукаво. «Хотел сесть на престоле, а и стула не оказалось!..»
Вот отчего и «смирение» Достоевского собственно лукаво же. «Чего захотел, гордец: стать смиреннее всех. Но смиреннее всех был один Христос, и тайное поползновенье Достоевского было подставить любимому своему народу Христово место, Христов престол». Это явная «хлыстовщина», по определению владык – «ересь».
Нет, «лень» вернее. Лень – спасительнее. Ее ни под какую «ересь» не подведешь, ибо суть ее заключается в том, чтобы «посидеть у окошечка и подождать». «А к вечеру позабавимся чаем. При таком случае сон будет ясен, без выкриков, – и так, с легкими и безгрешными сновидениями».
Сна «леди Макбет» не будет. На «престоле» же непременно будут «сны леди Макбет». Это – ужасное, поистине ужасное место. Я не понимаю, как люди не боятся его.
Не величавое и мирообъемлющее «смирение», а простая частная скромность, личная скромность, – вот что хорошо. Дай Бог и этого добиться, но «этому» очень способствует, если «с ленцой». Зачем нам и куда нам торопиться? Больше жизни все равно не проживешь, а «свою жизнь» всякий, наверное, проживет. Я не говорю о времени войны: теперь мы все торопимся и так должно, ибо иначе нам неприятель сядет на шею и, черт его дери, заставит делать тоже его окаянные «зубные щетки»… «Чтобы разбогатеть», видите ли! Но я не желаю быть очень богат. А посему сделаю сам себе одну щетку. Кой-какую, ненадолго. И потом еще сделаю, и опять. Без всякой «универсальности»
Место Руси, вера Руси – вечная относительность. «Жизнь для жизни нам дана», т. е. для самого процесса жизни, который ей-ей хорош, и не нужно к ней никакого «заключения». «Пусть тянется, матушка, как степная дороженька, нигде не кончаясь, нигде не начинаясь». И – «эй вы, бегите, кони, только не растрясите меня».
Я хотел говорить о новой книге – огромной книге – нашего философа и публициста Н. А. Бердяева «Смысл творчества», недавно появившейся в Москве. Там он зовет Россию и, стало быть, всех нас к «религиозному творчеству». К религиозному героизму, к религиозному величию… Вспомнил пап, Лютера, испугался и от страха заснул. Были самые легкие сновидения. Проснулся и написал эти немногие строки, – в том смысле, что «боюсь», и что это не «удел Руси».