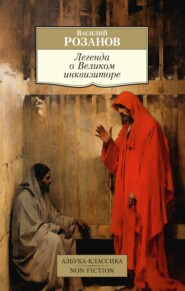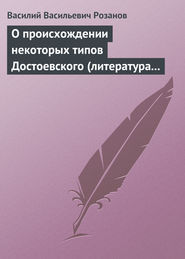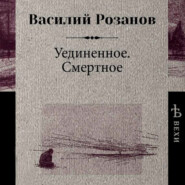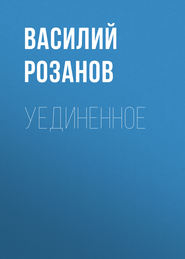По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отчего это окостенение?
Все богословские рассуждения напоминают мне «De civitate veterum Tarentinorum»[36 - «О государстве древних тарентийцев» (лат.).], которую я купил студентом у букиниста.
* * *
По-видимому (в историю? в планету?), влит определенный % пошлости, который не подлежит умалению. Ну, – пройдет демократическая пошлость и настанет аристократическая. О, как она ужасна, еще ужаснее!! И пройдет позитивная пошлость, и настанет христианская. О, как она чудовищна!!! Эти хроменькие то, это убогонькие-то, с глазами гиен… О! О! О! О!.. «По-христиански» заплачут. Ой! Ой! Ой! Ой!..
(на ходу).
* * *
Далеко-далеко мерцает определение: – Да, он, конечно, не мог бы быть Дегаевым; но «пути его были неведомы» – и Судейкиным он очень мог бы быть…
По крайней мере, никто в литературе не представляется таким «естественным Судейкиным», с страшным честолюбием, жаждой охвата власти, блестящим талантом и «большим служебным положением».
(Н. Михайловский).
* * *
«Встань, спящий»… Я бы взял другое заглавие: «Пробудись, бессовестный».
(заглавие журнала 1905 г. Ионы Брихинчева).
* * *
– Байрон был свободен, – неужели же не буду свободен я?! – кричит Арцыбашев.
– Ибо ведь я печатаюсь теми же свинцовыми буквами!
Да, в свинцовых буквах все и дело. Отвоевали свободу не душе, не уму, но свинцу.
Но ведь, господа, может прийти Некто, кто скажет:
– Свинцовые пули. И даже с Гуттенберговой литерой N (apoleon)… – как видел я это огромное N на французских пушках вкруг арсенала в Москве.
(июнь).
* * *
До тех пор, пока вы не подчинитесь школе и покорно дадите ей переделать себя в не годного никуда человека, до тех пор вас никуда не пустят, никуда не примут, не дадут никакого места и не допустят ни до какой работы.
(история русских училищ).
* * *
Нет хорошего лица, если в нем в то же время нет «чего-то некрасивого». Таков удел земли, в противоположность небесному – что «мы все с чем-то неприятным». Там – веснушка, там – прыщик, тут – подпухла сальная железка. Совершенство – на небесах и в мраморе. В небесах оно безукоризненно, п. ч. правдиво, а в мраморе уже возбуждает сомнение, и мне, по крайней мере, не нравится. Обращаясь «сюда», замечу, что хотя заглавия, восстановленные мною «из прежнего» – хуже (некрасивее) тех, какие придал (в своих изданиях) П.П. Перцов некоторым моим статьям, но они натуральные в отношении того настроения духа, с каким писались в то время. Эти запутанные заглавия, – плетью, – выразили то «заплетенное», смутное, колеблющееся и вместе порывистое и торопливое состояние ума и души, с каким я вторично выступил в литературу в 1889 году, – после неудачи с книгою «О понимании» (1886 г.). Вообще заглавия – всегда органическая часть статьи. Это – тема, которую себе написывает автор, садясь за статью; и если читателю кажется, что это заглавие неудачно или неточно, то опять характерно, как он эту тему теряет в течение статьи. Все это – несовершенства, но которые не должны исчезнуть.
(обдумываю Перцовские издания своих статей; и что ему может показаться печальным, что при втором издании я восстановил свои менее изящные, «долговязые» заглавия. Они характерны и нужны).
* * *
У нас Polizien-Revolution[37 - Полицейская революция (нем.).]; куда же тут присосались студенты.
А так бедные бегают и бегают. Как таракашки в горячем горшке.
* * *
Этот поп на пропаганде христианских рабочих людей зарабатывал по нескольку десятков тысяч рублей в год. И квартира его – всегда целый этаж (для бессемейной семьи, без домочадцев) – стоила 2–3 тысячи в год. Она вся была уставлена тропическими растениями, а завешаны дорогими коврами. Везде, на столах, на стенах, «собственный портрет», – en face, в
/
, в профиль с лицом «вдохновенным» и глазами, устремленными «вперед» и «ввысь». Совсем «как Он» («Учитель» мой и наш)… Сам он, впрочем, ходил в бедной рясе, суровым, большим шагом, и не флиртировал. За это он мне показался чуть не «Jean Chisostome», как его вывел Алексей Толстой
К земным утехам нет участья,
И взор в грядущее глядит…
Можно же быть такой телятиной, чтобы «Повесть о капитане Копейкине» счесть за «Историю Наполеона Бонапарте».
(из жизни).
* * *
Что это было бы за Государство «с историческим призванием», если бы оно не могло справиться с какою-то революциешкой: куда же бы ему «бороться с тевтонами» etc., если б оно не справлялось с шумом улиц, говором общества, и нервами «высших женских курсов».
И оно превратило ее в Polizien-Revolution, «в свое явление»'. положило в карман и выбросило за забор как сифилитического неудачного ребенка.
Вот и все. Вся «история» ее от Герцена до «Московского вооруженного восстания», где уже было больше полицейских, чем революционеров, и где вообще полицейские рядились в рабочие блузы, как и в свою очередь и со своей стороны революционеры рядились в полицейские мундиры (взрыв дачи Столыпина, убийство Сипягина).
«Ряженая революция»: и она кончилась. Только с окончанием революции, чистосердечным и всеобщим с нею распрощанием, – можно подумать о прогрессе, о здоровье, о работе «вперед».
Эта «глиста» все истощила, все сожрала в кишках России. Ее и надо было убить. Просто убить.
«Верю в Царя Самодержавного»: до этого ни шагу «вперед».
(за другими занятиями).
* * *
Когда Надежда Романовна уже умирала, то все просила мужа не ставить ей другого памятника, кроме деревянного креста. Непременно – только дерево и только крест. Это – христианка.
Не только – «почти ничего» (дерево, ценность), но и – временное (сгниет).
И потом – ничего. Ужасное молчание. Небытие. В этом и выражается христианское – «я и никогда не жила для земли».
Христианское сердце и выражается в этом. «Я не только не хочу работать для земли, но и не хочу, чтобы земля меня помнила». Ужасно… Но и что-то величественное и могущественное.
Надежда Романовна вся была прекрасна. Вполне прекрасна. В ней было что-то трансцендентное.