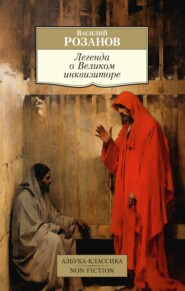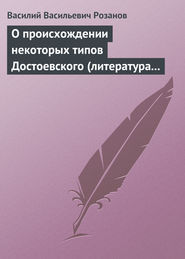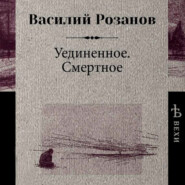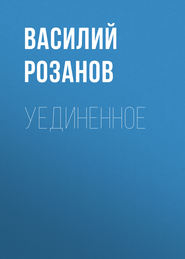По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Благородный ли я писатель?
Конечно, я не написал бы ни одной статьи (для денег – да), т. е. не написал бы «от души», если бы не был в этом уверен.
А ложь? Разврат («поощряю»)? Нередкая злоба (больше притворная)?
Как сочетать? согласить? примирить?
Не знаю. Только этот напор в душе убеждения, что у меня это – благородно.
Почему же? Какие аргументы? – «на суде ничего не принимается без доказательств»?
Да, – а что такое неблагородное?
«Подделывался».
Но ни к кому не подделывался.
«Льстил».
Но никому не льстил.
«Писал против своего убеждения».
Никогда.
Если я писал с «хочется» (мнимый «разврат»), то ведь что же мне делать, если мне «хотелось»?
Не потащите же вы корову на виселицу за то, что ей «хотелось».
И если «лгал» (хотя определенно не помню), то просто в то время не хотел говорить правду, ну – «не хочу и не хочу».
Это – дурно.
Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличить правды от лжи; почему я для вас должен трудиться?
Да и то определенной лжи я совсем не помню.
Правда, я писал однодневно «черные» статьи с эс-эр-ными. И в обеих был убежден. Разве нет
/
истины в революции? и У истины в черносотенстве?
Но зачем в «правом» издании и в «левом»?
По убеждению, что правительство и подумать не смеет поступать по «правым» ли, по «левым» ли листкам. Мой лозунг: «если бы я был Кое-кто, то приказал бы обо всем, не исключая «Правительственного Вестника»:
– В мой дом этих прокламаций не вносите.
Я бы уравнял «Русское Знамя» и какую-нибудь «Полярную Звезду».
– Этих прокламаций мне не надо.
Как сметь управлять «по 100 газетам», когда не подали голоса 100 000 000 людей (мужики, вообще не «имущие»)? не подали бабы? чистые сердцем гимназисты?
Подали, извольте, «люди с пером».
Я бы им такое «чиханье» устроил, что не раскутались
бы.
Правительство должно быть абсолютно свободно. И особенно – от гнета печати. Разумеется, в то же время оно должно быть чрезвычайно строго к себе.
Но – по своему убеждению и своим принципам.
А то:
– Баян говорит.
– Григорий Спиридоныч желает.
– Амфитеатров из-под Везувия фыркает.
Скажите, пожалуйста, какая «важность»? Как же им не
фыркать, не желать и не говорить, когда есть чернильницы и их научили грамоте.
Не более я думал и о себе.
– Все это ерунда.
Это скромность. Именно что я писал «во всех направлениях» (постоянно искренне, т. е. об
/
истины в каждом мнении мысли) – было в высшей степени прекрасно, как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это «вздор» и «никому не нужно»: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.
И еще одна хитрость или дальновидность – и, м. б., это лучше всего объяснит, что я сам считаю в себе притворством. Передам это шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, действительно, мелькала у меня в уме:
– Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?
– Полное.
Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все «химики и естествоиспытатели», все великие умы новой истории – согласно и без противоречий – дали хвалу Henri IV за то, что он принес в жертву устарелый религиозный интерес новому государственному интересу, тем самым, по Дрэперу, «перейдя из века Чувства в век Разума». Ну, хорошо. Так все хвалили?
Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать «расквасив» яйца разных курочек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революционное, – выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» – на том фоне, который по существу своему ложен и противен… И сделал это с восклицанием:
– Со мною Бог.
Конечно, я не написал бы ни одной статьи (для денег – да), т. е. не написал бы «от души», если бы не был в этом уверен.
А ложь? Разврат («поощряю»)? Нередкая злоба (больше притворная)?
Как сочетать? согласить? примирить?
Не знаю. Только этот напор в душе убеждения, что у меня это – благородно.
Почему же? Какие аргументы? – «на суде ничего не принимается без доказательств»?
Да, – а что такое неблагородное?
«Подделывался».
Но ни к кому не подделывался.
«Льстил».
Но никому не льстил.
«Писал против своего убеждения».
Никогда.
Если я писал с «хочется» (мнимый «разврат»), то ведь что же мне делать, если мне «хотелось»?
Не потащите же вы корову на виселицу за то, что ей «хотелось».
И если «лгал» (хотя определенно не помню), то просто в то время не хотел говорить правду, ну – «не хочу и не хочу».
Это – дурно.
Не очень и даже совсем не дурно. «Не хочу говорить правды». Что вы за дураки, что не умеете отличить правды от лжи; почему я для вас должен трудиться?
Да и то определенной лжи я совсем не помню.
Правда, я писал однодневно «черные» статьи с эс-эр-ными. И в обеих был убежден. Разве нет
/
истины в революции? и У истины в черносотенстве?
Но зачем в «правом» издании и в «левом»?
По убеждению, что правительство и подумать не смеет поступать по «правым» ли, по «левым» ли листкам. Мой лозунг: «если бы я был Кое-кто, то приказал бы обо всем, не исключая «Правительственного Вестника»:
– В мой дом этих прокламаций не вносите.
Я бы уравнял «Русское Знамя» и какую-нибудь «Полярную Звезду».
– Этих прокламаций мне не надо.
Как сметь управлять «по 100 газетам», когда не подали голоса 100 000 000 людей (мужики, вообще не «имущие»)? не подали бабы? чистые сердцем гимназисты?
Подали, извольте, «люди с пером».
Я бы им такое «чиханье» устроил, что не раскутались
бы.
Правительство должно быть абсолютно свободно. И особенно – от гнета печати. Разумеется, в то же время оно должно быть чрезвычайно строго к себе.
Но – по своему убеждению и своим принципам.
А то:
– Баян говорит.
– Григорий Спиридоныч желает.
– Амфитеатров из-под Везувия фыркает.
Скажите, пожалуйста, какая «важность»? Как же им не
фыркать, не желать и не говорить, когда есть чернильницы и их научили грамоте.
Не более я думал и о себе.
– Все это ерунда.
Это скромность. Именно что я писал «во всех направлениях» (постоянно искренне, т. е. об
/
истины в каждом мнении мысли) – было в высшей степени прекрасно, как простое обозначение глубочайшего моего убеждения, что все это «вздор» и «никому не нужно»: правительству же (в душе моей) строжайше запрещено это слушать.
И еще одна хитрость или дальновидность – и, м. б., это лучше всего объяснит, что я сам считаю в себе притворством. Передам это шутя, как иногда люблю шутить в себе. Эта шутка, действительно, мелькала у меня в уме:
– Какое сходство между «Henri IV» и «Розановым»?
– Полное.
Henri IV в один день служил лютеранскую и католическую обедню и за обеими крестился и наклонял голову. Но Шлоссер, но Чернышевский, не говоря о Добчинском-Бокле, все «химики и естествоиспытатели», все великие умы новой истории – согласно и без противоречий – дали хвалу Henri IV за то, что он принес в жертву устарелый религиозный интерес новому государственному интересу, тем самым, по Дрэперу, «перейдя из века Чувства в век Разума». Ну, хорошо. Так все хвалили?
Вот и поклонитесь все «Розанову» за то, что он, так сказать «расквасив» яйца разных курочек – гусиное, утиное, воробьиное – кадетское, черносотенное, революционное, – выпустил их «на одну сковородку», чтобы нельзя было больше разобрать «правого» и «левого», «черного» и «белого» – на том фоне, который по существу своему ложен и противен… И сделал это с восклицанием:
– Со мною Бог.