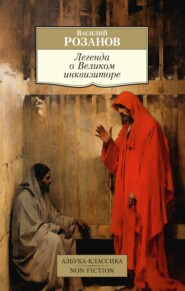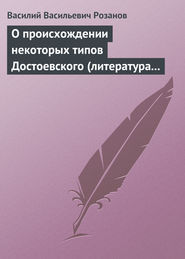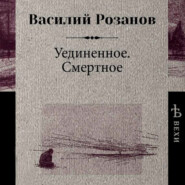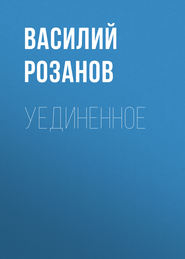По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но пусть это жестокая необходимость – в ноябре, в октябре, а не когда
Роняет лес багряный свой убор.
Да, и эта строка для меня тоже миф. Мы ничего теперь этого не видели. Мои бедные дети, такие талантливые все, но которым ученье трудно, – никогда этого не видят.
Не видят, действительно, этого оранжевого великолепия лесов. А что ребенок, в 7-11 лет, почувствует, увидев его, – кто иссчитал? кто угадал?
Может быть, оранжевый-то лес в детстве спасет его в старости от уныния, тоски, отчаяния? Спасет от безбожия в юности? Спасет отрока от самоубийства.
Ничего не принято во внимание. Бедная наша школа. Такая самодовольная, такая счастливая в убожестве. «Уже проходим алгебру» (с сопляками, не умеющими утереть носа).
* * *
Необыкновенной глубины и тревожности замечание Тернавцева, года 3 назад. Я говорил чуть ли не об университетах, о профессорах, может быть, о правительстве и министрах. Он меня перебил:
– Пустое! Околоточный надзиратель – вот кто важен!
Он как-то повел рукой, как бы показывая окрест, как
бы проводя над крышами домов (разговор был вечером, ночью):
– Тут вот везде под крышами живут люди. Какие люди? как они живут? – никто не знает, ни министр, ни ваш профессор. Наука не знает, администрация не знает. И не интересуется никто. Между тем какие люди живут и как они живут – это и есть узел всего; узел важности, узел интереса. Знает это один околоточный надзиратель, – знает молча, знает анонимно, и в состав его службы входит – все знать, «на случай»; хотя отнюдь не входит в состав службы обо всем докладывать. Он знает вора, – он знает проститутку, – он знает шулера, человека сомнительных средств жизни, знает изменяющую жену, знает ходы и выезды женщины полусвета. Все, о чем гадают романы, что вывел Горький в «На дне», что выводят Арцыбашевы и другие – вся эта тревожная и романтичная жизнь, тайная и преступная, ужасная и святая, находится, «по долгу службы», в ведении околоточного надзирателя, и еще, «по долгу службы», ни в чьем ведении не находится.
Он почти только недоговорил, или мысленно я договорил за него:
– Вот бы где служить: где подлинно – интересно, где подлинно – всемогущественно!
Я только ахнул в душе: «В самом деле – так! и – никому в голову не приходило!»
Он как-то еще ярче и глубже это сказал. Почти в этом смысле: все службы – призрачны и литературны, а действительная служба одна – это полицейская.
Сам Тернавцев – благороднейший мечтатель, а 1а Гамлет. И вдруг – такая мысль!
(20 августа, 12 ч.).
* * *
Только русская свободушка и подышала до евреев.
Которые ей сказали «цыц»:
И свободушка завиляла хвостом.
* * *
Вся русская «оппозиция» есть оппозиция лакейской комнаты, т. е. какого-то заднего двора – по тону: с глубоким сознанием, что это – задний двор с глубокой болью – что сами «позади»; с глубоким сознанием и признанием, что критикуемое лицо или критикуемые лица суть барин и баре. Вот это-то и мешает слиться с оппозицией, т. е. принять тоже лакейский тон. Самым независимым человеком в литературе я чувствовал Страхова, который никогда даже о «правительстве» не упоминал, и жил, мыслил и наконец, служил на государственной службе (мелкая и случайная должность члена Ученого комитета министерства просвещения с 1000 р. жалованья), имея какой-то талант или дар, такт или вдохновенье вовсе не интересоваться «правительством». То ли это, что лакей-Михайловский, «зачарованный» Плеве, или что «дворовый человек»-Короленко, который не может прожить дня, если ему не удастся укусить исправника или земского начальника или показать кукиш из кармана «своему полтавскому губернатору». «А то – и повыше», – думает он с трясущимися поджилками. «На хорах был пристав: и вот Анненский, сказав после какого-то предостережения, что пусть нас слушают итам – показал на хоры», – пишет Любовь Гуревич, – т. е. показал на самого пристава!!! Какая отчаянная храбрость. Страхов провалился бы сквозь землю от неуважения к себе, если бы в речи, имеющей культурное значение, он допустил себе, хоть минуту, подумать о приставе. Он счел бы унижением думать даже о министре внутренних дел, – имея в думах лишь века и историю. Вот и эта прелестная свобода не радикалов — к ним и манит, т. е. манит к славянофилам, к русским, которые решительно ничего о «правительстве» не думают, ни — «да», ни— «нет», «и — да», «и— нет». Когда хорошо правительство поступает– «да», когда худо, бездарно, беспомощно – «нет». Правительство есть просто орган народа и общества; и член общества, писатель смотрит на него как на слугу своего, т. е. слугу таких, как он, обывателей, граждан. Так. образ., признание «верховенства власти» есть у радикалов, и решительно его нету «нашего брата». Вот чего не разобрано, вот о чем не догадываются. Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у «оппозиции» есть только лакейская озлобленность и мука «о своем ужасном положении».
* * *
Покорить брак закону любви…
казалось бы, в этом ведь христианство: все – покорять закону согласия, мира, тишины. Но, именно, в христианстве, – не в мусульманстве, не и еврействе, – две тысячи лет бьется другой принцип:
Покорить любовь закону брака.
И все в этом задыхаются.
Кажется, что в нашем браке – и не Евангелие, и не Библия (уж, конечно): это – римский государственный брак. Отцы Церкви были все обывателями Греко-Римской Империи, или – чисто Римской: и понятие об «основной социальной клеточке» взяли из окружающей жизни.
Вот почему мои порывы к новой семье хотя кажутся и суть «антиканонические», но суть подлинно евангельско-библейские стремления, и только антиримско-языческие, неосторожно взятые в «каноны».
Бог сотворил любовь. Адам и Ева были в любви – и по сему, единственно, Библия их нарекла иш и иша («сопряженные»), муж и жена. Любовь древнее «закона брачного». И понятно, что древнейшее и основное не умеет покориться новому и прибавочному.
Не «существительное» согласуется в роде, числе и падеже с «прилагательным», а «прилагательное» согласуется с «существительным».
И следуйте этому, попы, или, во всяком случае, вам не будут повиноваться.
Будете убивать за это, и все-таки вам повиноваться не будут по слову Писания – «любовь сильнее даже и смерти».
Очень хорошо «расположение образования» в стране от 8-ми до 22-х лет – прилежное учение. «Долбеж», от которого не поднимешь головы. От 22 – х лет до 35-ти – корректная служба, первые чины и первые ордена. В 35-ть лет – статский советник. Женат (с приданым) и первые дети, ну, это – «кухня и спальня». Достигнув статского советника, – карточный стол, мелок, и пока – он проигрывает начальству, а потом – ему будут проигрывать подчиненные. Тогда он будет уже действительный статский советник.
Потом умрет. И в черной кайме «жена и дети» извещают, что «после тяжкой болезни» Иван Иваныч наконец «скончался».
* * *
Это здоровая реакция на «глупости», что гимназисты не учатся.
– Не учитесь, господа. Ну их к черту. Шалите, играйте. Собирайте цветы, влюбляйтесь. Только любите своих родителей и уважайте попов (ходите потихоньку в церковь). На экзаменах «списывайте», – в удовлетворение министерской ненасытности.
В 20 лет, когда уже будете, конечно, женаты, начинайте полегоньку читать, и читайте все больше и больше, до самой смерти.
Тогда она настанет поздно, и старость ваша будет мудрая.
* * *
…а то вас с детства делают старичками, а в старости предложат жениться. «Ибо уже так мудр, что можешь теперь воспитывать детей», которых теперь родить не можешь.
Вы им скажите, взрослым:
– Нет, папаша, я буду за книгами и бумагой, за письменным столом и делами сидеть – под старость. Ибо будет ум «вершить дела». А теперь я – глупенький, побегу в поле, нарву цветов и отнесу их девочке.
* * *
Из этих слов И. Христа, что «нельзя разводиться мужу и жене, токмо как по вине прелюбодеяния», духовенство извлекло больше доходов, чем из всех австралийских, и калифорнских, и алтайских золотых россыпей.
И хотя отсюда брызнули кровь и мозг человечества, церковь не может их перетолковать, распространить или усложнить, потому что иначе закроются золотоносные россыпи. И на отстаивание и сохранение буквальными этих слов положено более усилий, чем на защиту всего Евангелия.
Что не отдаст человек за восстановление своего семейного счастья? В эту-то кнопку духовенство и надавило.