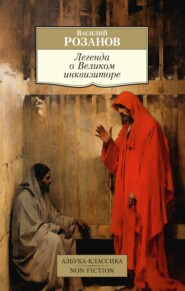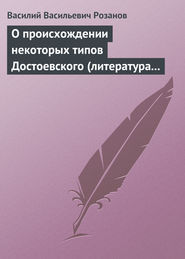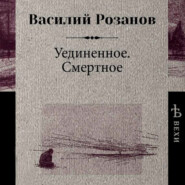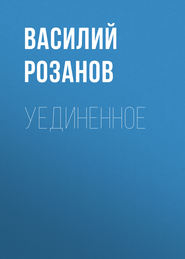По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опавшие листья
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И «для……» же уносил последнее белье из комода (матернее, сестрино, наше детское). Говорили об этом. Как с ним драться, когда он всех сильнее (старший в дому).
Мать лежала (болезнь).
Дети играли. Я (из-под палки) все на носилках носил навоз в парники (очень тяжело, руки обрывались, колена подгибались). Потом – поливал (легче, но отвратительно, что, вытаскивая ведра из прудика, всегда заливал штаны). Потом – полол. Мне было 7, 8, 9 лет (хорошо бы труд, но всегда без улыбки и ни единого слова, т. е. каторжный). 19-летний и 17-летняя – ничего. (Нельзя было их заставить, и даже оскорблялись на «попросить».)
И развалилось все. В проклятиях. Отчаянии. Отчего? Не было гармонии. Где? В доме. Так «в «доме», а не – «в обществе», до которого ни нам не дотянуться, ни ему до нас не дотянуться.
Как же вы меня убедите в правоте Лассаля и Маркса?
И кто нас «притеснял»? Да мы были свободны, как галки в поле или кречеты в степи. И – проклятие, отчаяние и гибель.
А могли бы быть не только удовлетворены, но счастливы. Да: было еще пенсии 300 р. в год, по 150 р. в полугодие (получали полугодиями).
(ночью в постели вспоминаю).
* * *
Он точно кисточкой рисует свои добродетели. И так как узор красив, то он и продолжает быть добродетельным.
Но это не доброта.
Доброта болеет. Доброта делает. Доброта не оглядывается. Доброта не ищет «себя» и «своего» в поступке: она видит внутри поступка своего только лицо того, кому нужен поступок.
Доброта не творит милостыни, доброта творит братское дело. Мы все братья, и богатые, и нищие, и знатные, и простые. Ибо завтра богатый может потерять богатство и знатный очутиться в тюрьме.
* * *
В 1895-6 году я определенно помню, что у меня не было тем.
Музыка (в душе) есть, а пищи на зубы не было.
Печь пламенеет, но ничего в ней не варится.
Тут моя семейная история и вообще все отношение к «другу» и сыграло роль. Пробуждение внимания к юдаизму, интерес к язычеству, критика христианства – все выросло из одной боли, все выросло из одной точки. Литературное и личное до такой степени слилось, что для меня не было «литературы», а было «мое дело», и даже литература вовсе исчезла вне «отношения к моему делу». Личное перелилось в универсальное.
Да это так и есть на самом деле.
Отсюда моя неряшливость в литературе. Как же я не буду неряшлив в своем доме. Литературу я чувствую как «мой дом». Никакого представления, что я «должен» что-нибудь в ней, что от меня чего-то «ожидают».
* * *
На «том свете» я спрошу:
– Ну, что же, Вера, доносила старые калоши?
Потому что на этом свете она спросила:
– Барин, у вас калоши-то худые. Отдайте их мне.
Ия, – засыпая после обеда, сказал:
– Возьми, Вера.
Она была черная, худая и мертвенная, лет 45-ти, но очень служила мне верной службой.
Я не догадался ничем ее отдарить. Не пришло на ум (действительно). А теперь почему-то мучит и вспоминаю. Это было 23 года назад.
Она была безмолвная и безответная. Огурцы засолила. Подает в сентябре. Твердые-претвердые.
– Что это за нелепые огурцы, Вера?
– Это с острогоном. Крепче. Через 2 недели будут совсем хороши.
Котлеты. И – ягоды черные!!!
– Это что за нелепость, Вера???!!!
– Я у купцов так готовила. С черносливом.
И действительно было приятно.
(в Ельце).
* * *
У Родзевича была горничная. Очень милая. Он же был жесток (учитель математики).
Тогда я, Стройков, Запольский, Штейн (жили у Василия Максимовича, наверху) решили ему отомстить за вечные двойки.
По длинному нижнему коридору (учительскому) она несла барину суп. Обе руки заняты. «Точно нас осенило»: мы подскочили с трех сторон и стали… чего-то искать у нее в кофте. Волнуется, бранится, но ничего не может поделать (руки заняты). И бежать не может (уронит миску). Бранится. У нас руки как таракашки по ней бегают. Но ничего особенного, и вообще скромно. IV класс гимназии… «Глупыши и не понимаем». Нам бы надругаться над Родзевичем.
Он был поляк, католик, ханжа и сослан в Нижний за «бунт». Бесцеремонно он всем полякам ставил не менее 3-х (даже Горскому, который ничего не знал и нагло манкировал); нам же, русским, почти сплошь ставил двойки.
Он был маленький, почти крошечного роста, с козлиной бородой, худой, злобный, и почему-то вкруг шеи наматывал длиннейший грязный шарф.
Голос – громовый. Сущий сатир или дьявол.
На другой день, войдя на кафедру, но не садясь, он гробовым глухим голосом, не понятно ни для кого в классе (кроме «нас четырех»):
«– И вы-ы-ы! – Бормотанье… – Испорченные ю-ю-ю-юноши… Некоторые из вас… Осмеливаются… Даже своих наставников не уважать»…
Но он был до того хитер, что в этот урок никого из нас не вызвал к доске (доказывать теорему).
Только потом мучил.
(в Нижнем).
* * *