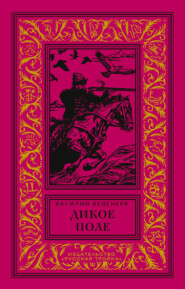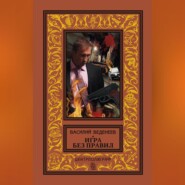По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дорога без следов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почувствовав, что Тоня проснулась, он повернул голову и встретился с ней глазами. Она улыбнулась.
– Тихо, – приложил ей палец к теплым губам Антон. – Хозяйка вернулась, а мне надо собираться.
– Ты правда уедешь? – свистящим шепотом, спросила она.
– Правда, – вздохнул Волков и тут же поспешил ее успокоить, – только не знаю когда.
На улице профырчала мотором машина, хлопнула дверца.
Быстро вскочив, Антон схватил свои вещи в охапку и, торопливо поцеловав Тоню, на цыпочках выскочил в коридор, метнувшись к дверям своей комнаты. Оглянувшись, увидел, – стоя на пороге, на него смотрела квартирная хозяйка.
– Доброе утро, – жалко улыбнулся он и шмыгнул за дверь, чувствуя, как сверлит его спину чужой взгляд, иронично насмешливый и презрительный одновременно.
«Ну и черт с ней, – подумал Волков, натягивая сапоги, – сегодня же пойдем в загс и распишемся. Плевать на все! Не отдадут же меня под суд! Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут…»
В дверь постучали. Открыв ее, он увидел одного из сотрудников отдела Кривошеина.
– Раненый пришел в себя, – зябко потирая руки, вместо приветствия сообщил тот. – Сергей Иваныч уже там.
– Едем, – затягивая пояс, засуетился Антон.
– Да нет, – усмехнулся гость, – нам на аэродром. Ночью из Москвы пришло распоряжение за подписью заместителя наркома. Приказано вам срочно вернуться. Так что собирайтесь.
– Счас, – бросил Волков и, не обращая внимания на стоявшую в прихожей квартирную хозяйку, рванул за ручку дверь комнаты Тони.
Она оказалась запертой.
* * *
На Лубянке Семену каждую ночь снились жуткие сны – то он видел себя перебирающимся по тонкому, подточенному половодьем льду, сжимая в руках выломанную на берегу слегу; то наваливалась душная темнота подпола в деревне и явственно чудился запах гниловатой картошки и соленых огурцов-желтяков, которыми впору заряжать пушки для стрельбы по немецким танкам; то вдруг выплывало из тумана и приближалось к нему лицо сумасшедшей, грязной, расхристанной бабы, встреченной в одной из сожженных деревень, когда он добирался к линии фронта. Женщина тянула к Семену скрюченные пальцы, намереваясь схватить и, нехорошо улыбаясь голубым, запавшим ртом, требовала: «Люби меня, люби!»
А то раз привязалась во сне мелодия танго «Люблю» в исполнении Георгия Виноградова – эту пластинку часто крутили на заставе до войны: «Вам возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю».
Глупо и страшно, просыпаясь, слышать эту мелодию, как отзвук давно и безвозвратно прошедшего времени. Кажется, в его сне, на бумажной разноцветной наклейке пластинки танцевали пары – топтались, сосредоточенно глядя под ноги и, не удержавшись на черном вертящемся диске, с душераздирающим криком соскальзывали с его края в пустоту, клубящуюся багровым, но тут же на диске появлялись новые пары, чтобы спустя некоторое время тоже соскользнуть в багровый туман, а вслед им хищно сверкал штырек, на который насажена вертящаяся пластинка…
По ночам, просыпаясь от собственного вскрика, Семен обычно долго лежал, прислушиваясь к тишине одиночной камеры – ни стука капель из крана, ни шагов по коридорам, ни звуков проехавших по улице машин: единственное узкое зарешеченное окно выходило во внутренний глухой двор-колодец с выкрашенными ядовито-желтой краской кирпичными стенами.
Страшно и ужасно, сбежав из немецкой камеры смертников, с превеликими трудами добравшись до линии фронта и перейдя ее, в конце концов оказаться в одиночной камере у своих. И тут же возникла другая мысль – да, страшно и ужасно, но противоестественно это или закономерно? Он сам поверил бы безоглядно человеку, пришедшему оттуда, да еще рассказывающему такие вещи, от которых у слабонервных могут встать дыбом волосы?
Отчего-то вспомнилась услышанная по дороге от солдат конвоя поговорка: немец считает, что победит раса, американец думает, что всех побьет касса, а мы кричим – победит масса!
Изменилась армия с сорок первого, ох как изменилась! Погоны на солдатах и офицерах – непривычные, чем-то напоминающие виденные ранее фильмы про Гражданскую, где все беляки были в таких же погонах; оружие другое, бойцы более уверены в себе, на дорогах колонны войск и техники, немец уже не шарашит, как хочет, с воздуха, но предпочитает отвалить при появлении наших истребителей и штурмовиков. Bсe это наполняло его гордостью, и еще сильнее становилась тревога за себя, за будущее – что с ним станут делать, поверят ли?
Первый раз Семена допросили в землянке командира роты, потом под конвоем повели в тыл – сначала по запутанной системе ходов сообщения с тихо осыпающейся со стенок траншей землей и рассыпанными под ногами стреляными гильзами, потом какими-то балочками и овражками, пока не выбрались к чахлому лесочку, где располагался штаб полка. На перебежчика пришел поглядеть сутуловатый немолодой офицер с одной большой звездочкой на широких, с двумя просветами, погонах – как выяснилось, майор Сергеев, командир стрелкового полка, в полосе обороны которого Слобода перешел фронт.
Допрашивал особист с неприятным тонким голосом, любивший к месту и не к месту добавлять приговорку «ядрена-корень». На его застиранной гимнастерке топорщились еще темно-зеленые, не успевшие полинять под солнцем и дождями, защитные погоны с четырьмя маленькими звездочками.
Майор Сергеев присел в сторонке и, неожиданно вступив в разговор, начал дотошно расспрашивать о системе обороны противника, что видел и слышал Слобода, пробираясь к переднему краю немцев, а недовольно примолкший особист напряженно тянул в себя ноздрями, чутко принюхиваясь к запахам давно не мытого тела перебежчика и его грязной, засаленной одежды. Много позже Семен узнал, что капитан старался уловить – пахнет от пришельца с той стороны пиретрумом или нет? Все немецкие землянки и занимаемые их частями помещения были буквально пропитаны запахом этого дезинфицирующего средства, и потому человек, побывавший у немцев, впитывал запах, принося его с собой. На счастье Семена, подозрительные принюхивания капитана с тонким голосом ничего тому не дали.
Пограничник требовал встречи с представителями военной контрразведки фронта, не ниже, и его повезли сначала в дивизию, потом дальше в тыл, в какой-то заштатный городишко с криво торчащей на главной площади старой пожарной каланчой из красного кирпича, покосившимися домишками и разбитыми гусеницами танков мостовыми, в колеях которых стояли грязные не просыхающие лужи.
В штабе фронта допрашивали уже сразу несколько человек, потом сводили под конвоем в баню, переодели в поношенное, но чистое солдатское исподнее белье и застиранную форму без погон и знаков различия, а после отправили на аэродром и доставили в Москву.
Прямо у трапа ждал крытый фургон, прозванный «воронком». Семена грубо запихали в его обитое железом темное чрево, лязгнула тяжелая дверь с маленьким решетчатым оконцем, уселись охранники, и натужно заревел мотор. О том, что он в Москве, Слобода узнал уже на следующих допросах, которые вел лысоватый, выглядевший совсем по-домашнему подполковник, назвавшийся Николаем Демьяновичем.
Как-либо обращаться к допрашиваемому он старательно избегал, обходясь местоимением «Вы», но угощал чаем, распорядился выдавать папиросы и спички, отвечал на расспросы о действительном положении на фронтах.
Несколько раз вместе с Николаем Демьяновичем приходил на допросы одетый в мешковато сидевший на нем штатский костюм немолодой плотный человек среднего роста. Садился в стороне, внимательно слушал, листал исписанные аккуратным почерком подполковника листы протоколов, ерошил толстой короткопалой ладонью поседевшие волосы, изредка задавал уточняющие вопросы, а выслушивая ответы, недоверчиво щурился.
По тому, как вел себя в его присутствии подполковник, Слобода понимал: пожаловало высокое начальство, не ниже генерала, а может быть, и выше. Портреты таких людей не выносят на демонстрациях и не публикуют в газетах, поэтому о должности, занимаемой одетым в штатский костюм человеком, оставалось только гадать.
Свою историю Семен рассказывал бесконечное число раз, припоминая все новые и новые подробности, до которых Николай Демьянович был большим охотником. Он вообще оказался въедливым, педантичным, крайне внимательным, казалось, совершенно не знал усталости и в конце допроса, зачастую продолжавшегося по несколько часов кряду, выглядел абсолютно свежим.
– Ну, ладно, – сочувственно поглядывая на утомленного Слободу, обычно говорил он, собирая бумаги, – прервемся пока. Отдохните немного, поешьте, а потом продолжим.
И продолжали, невзирая на время суток. Подполковник требовал все новых и новых деталей, по много раз уточнял даты, названия населенных пунктов, через которые лежал путь Семена к фронту, приметы людей, встречавшихся на пути, предоставлявших ночлег, укрытие, оказывавших помощь беглецу.
Особо дотошно он расспрашивал о пребывании в тюрьме, о повешенном немцами переводчике Сушкове, о лохматом сокамернике Ефиме и других. Интересовался следователем СД, допрашивавшим Слободу в Немеже, лагерями, партизанскими отрядами, боями с карателями, побегами, именами предателей и полицаев, обстоятельствами побега со станции и произошедшей в деревне встречи с хозяином явки партизан Андреем.
От долгих ежедневных разговоров у Слободы опухло горло и до хрипоты осел голос, а подполковник все не унимался, задавая новые и новые вопросы – во что был одет Сушков, как говорил, на какую ногу хромал, когда точно его повесили, кто при этом присутствовал из немцев, какие особые приметы имел Ефим, где располагалась камера смертников, просил нарисовать план тюрьмы и маршрут, по которому водили на допросы по галереям в другое крыло здания, кто принимал лейтенанта на явке, указанной Андреем, и кому перепоручили помогать беглому узнику в дальнейшем, как шел, чем питался, сколько километров проходил в день…
Вопросы сыпались из него один за другим – не человек, а машина по выдаче вопросов. Но при всем том подполковник не был вредным – всегда в ровном расположении духа, чисто выбритый, не повышающий голоса, вежливый, не пытающийся запугать или напустить на себя важность некоего всезнайки, видящего на аршин сквозь землю, – он даже нравился Семену и, вернувшись после допроса в камеру, Слобода часто пытался успокоить себя тем, что Николай Демьянович обязательно во всем разберется, изменника разоблачат, и ему, Семену Слободе, дадут возможность искупить позор плена, пусть даже невольного, снова взяв в руки оружие.
Пускай рядовым, но скорее на фронт! Одна мечта – вырваться наконец из страшного круга, в который его загнала война, разорвать тиски судьбы, вернуться в привычное русло, почувствовать себя нормальным, полноправным человеком. Неужели этому никогда не суждено сбыться?
В те редкие ночи, когда его не вызывали на допросы, Семен мучился кошмарами или подолгу не спал, уставившись невидящими глазами в потолок и размышляя о том, как дальше сложится судьба. Спросить об этом подполковника? Ответит ли он, а если ответит, то что услышит дейтенант погранвойск Семен Слобода?
Иногда казалось – лучше ни о чем не думать, не спрашивать, пусть будет будет как будет: жить, подобно щепке, несомой водоворотом в неизведанную глубину жизненных вод. Однако человек – не щепка, особенно после того, как он прошел огонь и ад, ужас и позор плена фашистских лагерей, совершил несколько побегов и сумел сквозь все препятствия добраться до своих, донеся им страшную весть о предательстве, об измене! Разве может такой человек стать щепкой и смириться? Но как же тяжко оказаться вновь в камере! Теперь уже у своих, пусть даже и в столице…
«А на что еще ты рассчитывал, – останавливал он себя, прикуривая очередную папиросу и стараясь не обращать внимания на скопившуюся во рту горечь табака. – На что? На поцелуи, цветы, почетные караулы и гром оркестров, славящих героя? На лучезарные улыбки и предупредительность, усиленный паек и награждение орденами? “Классовая борьба по мере приближения к победе социализма обостряется”. Не сильнейшее ли проявление ее обострения война, на которой ты, волей судеб, оказался по другую сторону линии фронта?..»
В один из дней – Семен уже запутался во времени и плохо различал, утром или вечером его вызывали на допрос, – рядом с подполковником оказался довольно молодой человек, не старше тридцати пяти – сорока, с тяжеловатым подбородком и выступающими надбровными дугами. Под темными бровями поблескивали светлые зеленоватые глаза, глядевшие на Слободу с нескрываемым жадным интересом. На незнакомце была шерстяная гимнастерка с майорскими погонами.
«Что-то новое, – подумал пограничник, искоса посматривая на майора, – неужто начинается нечто важное, если появился этот человек? Зачем он здесь? Новый следователь?»
– Присаживайтесь, – как старому знакомому, кивнул Николай Демьянович, – товарищу надо с вами побеседовать.
Семен сел и привычно опустил руки между колен, ожидая вопросов. Майор начал методично расспрашивать о положении в оккупации, проверках на дорогах, партизанских отрядах, в которых воевал Слобода, о Немеже и тюрьме СД. Измученный бессонницей и кошмарами, неясностью своей судьбы и томительными многочасовыми допросами, Слобода отвечал неохотно, раз за разом повторяя то, что уже говорил раньше, но потом как-то разговорился и даже позволил себе немного поспорить с майором, когда речь пошла о тактике действий немцев против партизан. Сколько длился допрос, лейтенант не знал, но вернувшись в камеру, он повалился на тощий матрац, брошенный на нары, чувствуя, как устал.
На следующем допросе его вновь ожидал сюрприз – теперь рядом с подполковником сидел кряжистый мужчина с добродушно-хитроватым прищуром глаз, одетый в штатский двубортный костюм и рубашку с галстуком.
Наметанным глазом Слобода сразу угадал в нем военного: по тому, как тот держал спину, как говорил, по сдержанным жестам. Может быть, ему просто показалось, но военные люди, привычные к оружию и командам, сразу узнают друг друга в любой одежде и при любых обстоятельствах. Да и кто еще, кроме человека, носящего недавно введенные погоны, мог появиться здесь вместе с Николаем Демьяновичем? Тем более когда идет война.
Опять долгие расспросы все о том же, уточнение подробностей, просьба вспомнить еще что-нибудь существенное о Сушкове, хозяине явки на Мостовой, дом три, подробно рассказать о той ночи, когда бомбили станцию и удалось бежать с нее – сколько километров, ну, хотя бы примерно, он проехал в разбитом вагоне до того, как спрыгнул под откос, как шел до жилья, когда наткнулся на родник, как перебирался через речку, ее ширина, в каком направлении течет вода, как называлась деревня, где его прятали в подполе, фамилия старосты, как зовут хозяйку и ее детей?
И пошло-поехало – два-три часа дают отдохнуть, поесть, перекурить, и снова на допросы. То майор спрашивает, то он уходит и появляется человек в штатском, а то оба вместе начинают выворачивать Семена наизнанку своими вопросами. Дотошно, по несколько раз уточняя все вплоть до мельчайших деталей, требуя обязательно вспомнить, нарисовать схемку, попытаться восстановить и воспроизвести интонации разговоров в камере смертников, вновь рассказать, как он узнал, что Сушков работал переводчиком у немцев, повторять номера лагерей, фамилии и приметы сослуживцев по заставе, товарищей по партизанским отрядам. Веером рассыпали по столу фотографии и просили найти знакомых.
Семен перебирал карточки, всматриваясь в незнакомые лица штатских и военных, в лица немцев в черных и армейских мундирах, и не находил знакомых. Ему снова показывали пачки фотографий – он откладывал в сторону карточки товарищей по училищу, называл их имена, рассказывал, откуда они родом, узнал бывшего командира заставы и политрука, недоумевая, – зачем это? Он уже достаточно давно здесь, могли запросить его личное дело и все проверить или разыскать тех, с кем он учился, чтобы провести опознание. Почему они так не поступили? Скрывают, что он у них? Скрывают, чтобы нигде не просочилась раньше времени принесенная информация?
– Тихо, – приложил ей палец к теплым губам Антон. – Хозяйка вернулась, а мне надо собираться.
– Ты правда уедешь? – свистящим шепотом, спросила она.
– Правда, – вздохнул Волков и тут же поспешил ее успокоить, – только не знаю когда.
На улице профырчала мотором машина, хлопнула дверца.
Быстро вскочив, Антон схватил свои вещи в охапку и, торопливо поцеловав Тоню, на цыпочках выскочил в коридор, метнувшись к дверям своей комнаты. Оглянувшись, увидел, – стоя на пороге, на него смотрела квартирная хозяйка.
– Доброе утро, – жалко улыбнулся он и шмыгнул за дверь, чувствуя, как сверлит его спину чужой взгляд, иронично насмешливый и презрительный одновременно.
«Ну и черт с ней, – подумал Волков, натягивая сапоги, – сегодня же пойдем в загс и распишемся. Плевать на все! Не отдадут же меня под суд! Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут…»
В дверь постучали. Открыв ее, он увидел одного из сотрудников отдела Кривошеина.
– Раненый пришел в себя, – зябко потирая руки, вместо приветствия сообщил тот. – Сергей Иваныч уже там.
– Едем, – затягивая пояс, засуетился Антон.
– Да нет, – усмехнулся гость, – нам на аэродром. Ночью из Москвы пришло распоряжение за подписью заместителя наркома. Приказано вам срочно вернуться. Так что собирайтесь.
– Счас, – бросил Волков и, не обращая внимания на стоявшую в прихожей квартирную хозяйку, рванул за ручку дверь комнаты Тони.
Она оказалась запертой.
* * *
На Лубянке Семену каждую ночь снились жуткие сны – то он видел себя перебирающимся по тонкому, подточенному половодьем льду, сжимая в руках выломанную на берегу слегу; то наваливалась душная темнота подпола в деревне и явственно чудился запах гниловатой картошки и соленых огурцов-желтяков, которыми впору заряжать пушки для стрельбы по немецким танкам; то вдруг выплывало из тумана и приближалось к нему лицо сумасшедшей, грязной, расхристанной бабы, встреченной в одной из сожженных деревень, когда он добирался к линии фронта. Женщина тянула к Семену скрюченные пальцы, намереваясь схватить и, нехорошо улыбаясь голубым, запавшим ртом, требовала: «Люби меня, люби!»
А то раз привязалась во сне мелодия танго «Люблю» в исполнении Георгия Виноградова – эту пластинку часто крутили на заставе до войны: «Вам возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю».
Глупо и страшно, просыпаясь, слышать эту мелодию, как отзвук давно и безвозвратно прошедшего времени. Кажется, в его сне, на бумажной разноцветной наклейке пластинки танцевали пары – топтались, сосредоточенно глядя под ноги и, не удержавшись на черном вертящемся диске, с душераздирающим криком соскальзывали с его края в пустоту, клубящуюся багровым, но тут же на диске появлялись новые пары, чтобы спустя некоторое время тоже соскользнуть в багровый туман, а вслед им хищно сверкал штырек, на который насажена вертящаяся пластинка…
По ночам, просыпаясь от собственного вскрика, Семен обычно долго лежал, прислушиваясь к тишине одиночной камеры – ни стука капель из крана, ни шагов по коридорам, ни звуков проехавших по улице машин: единственное узкое зарешеченное окно выходило во внутренний глухой двор-колодец с выкрашенными ядовито-желтой краской кирпичными стенами.
Страшно и ужасно, сбежав из немецкой камеры смертников, с превеликими трудами добравшись до линии фронта и перейдя ее, в конце концов оказаться в одиночной камере у своих. И тут же возникла другая мысль – да, страшно и ужасно, но противоестественно это или закономерно? Он сам поверил бы безоглядно человеку, пришедшему оттуда, да еще рассказывающему такие вещи, от которых у слабонервных могут встать дыбом волосы?
Отчего-то вспомнилась услышанная по дороге от солдат конвоя поговорка: немец считает, что победит раса, американец думает, что всех побьет касса, а мы кричим – победит масса!
Изменилась армия с сорок первого, ох как изменилась! Погоны на солдатах и офицерах – непривычные, чем-то напоминающие виденные ранее фильмы про Гражданскую, где все беляки были в таких же погонах; оружие другое, бойцы более уверены в себе, на дорогах колонны войск и техники, немец уже не шарашит, как хочет, с воздуха, но предпочитает отвалить при появлении наших истребителей и штурмовиков. Bсe это наполняло его гордостью, и еще сильнее становилась тревога за себя, за будущее – что с ним станут делать, поверят ли?
Первый раз Семена допросили в землянке командира роты, потом под конвоем повели в тыл – сначала по запутанной системе ходов сообщения с тихо осыпающейся со стенок траншей землей и рассыпанными под ногами стреляными гильзами, потом какими-то балочками и овражками, пока не выбрались к чахлому лесочку, где располагался штаб полка. На перебежчика пришел поглядеть сутуловатый немолодой офицер с одной большой звездочкой на широких, с двумя просветами, погонах – как выяснилось, майор Сергеев, командир стрелкового полка, в полосе обороны которого Слобода перешел фронт.
Допрашивал особист с неприятным тонким голосом, любивший к месту и не к месту добавлять приговорку «ядрена-корень». На его застиранной гимнастерке топорщились еще темно-зеленые, не успевшие полинять под солнцем и дождями, защитные погоны с четырьмя маленькими звездочками.
Майор Сергеев присел в сторонке и, неожиданно вступив в разговор, начал дотошно расспрашивать о системе обороны противника, что видел и слышал Слобода, пробираясь к переднему краю немцев, а недовольно примолкший особист напряженно тянул в себя ноздрями, чутко принюхиваясь к запахам давно не мытого тела перебежчика и его грязной, засаленной одежды. Много позже Семен узнал, что капитан старался уловить – пахнет от пришельца с той стороны пиретрумом или нет? Все немецкие землянки и занимаемые их частями помещения были буквально пропитаны запахом этого дезинфицирующего средства, и потому человек, побывавший у немцев, впитывал запах, принося его с собой. На счастье Семена, подозрительные принюхивания капитана с тонким голосом ничего тому не дали.
Пограничник требовал встречи с представителями военной контрразведки фронта, не ниже, и его повезли сначала в дивизию, потом дальше в тыл, в какой-то заштатный городишко с криво торчащей на главной площади старой пожарной каланчой из красного кирпича, покосившимися домишками и разбитыми гусеницами танков мостовыми, в колеях которых стояли грязные не просыхающие лужи.
В штабе фронта допрашивали уже сразу несколько человек, потом сводили под конвоем в баню, переодели в поношенное, но чистое солдатское исподнее белье и застиранную форму без погон и знаков различия, а после отправили на аэродром и доставили в Москву.
Прямо у трапа ждал крытый фургон, прозванный «воронком». Семена грубо запихали в его обитое железом темное чрево, лязгнула тяжелая дверь с маленьким решетчатым оконцем, уселись охранники, и натужно заревел мотор. О том, что он в Москве, Слобода узнал уже на следующих допросах, которые вел лысоватый, выглядевший совсем по-домашнему подполковник, назвавшийся Николаем Демьяновичем.
Как-либо обращаться к допрашиваемому он старательно избегал, обходясь местоимением «Вы», но угощал чаем, распорядился выдавать папиросы и спички, отвечал на расспросы о действительном положении на фронтах.
Несколько раз вместе с Николаем Демьяновичем приходил на допросы одетый в мешковато сидевший на нем штатский костюм немолодой плотный человек среднего роста. Садился в стороне, внимательно слушал, листал исписанные аккуратным почерком подполковника листы протоколов, ерошил толстой короткопалой ладонью поседевшие волосы, изредка задавал уточняющие вопросы, а выслушивая ответы, недоверчиво щурился.
По тому, как вел себя в его присутствии подполковник, Слобода понимал: пожаловало высокое начальство, не ниже генерала, а может быть, и выше. Портреты таких людей не выносят на демонстрациях и не публикуют в газетах, поэтому о должности, занимаемой одетым в штатский костюм человеком, оставалось только гадать.
Свою историю Семен рассказывал бесконечное число раз, припоминая все новые и новые подробности, до которых Николай Демьянович был большим охотником. Он вообще оказался въедливым, педантичным, крайне внимательным, казалось, совершенно не знал усталости и в конце допроса, зачастую продолжавшегося по несколько часов кряду, выглядел абсолютно свежим.
– Ну, ладно, – сочувственно поглядывая на утомленного Слободу, обычно говорил он, собирая бумаги, – прервемся пока. Отдохните немного, поешьте, а потом продолжим.
И продолжали, невзирая на время суток. Подполковник требовал все новых и новых деталей, по много раз уточнял даты, названия населенных пунктов, через которые лежал путь Семена к фронту, приметы людей, встречавшихся на пути, предоставлявших ночлег, укрытие, оказывавших помощь беглецу.
Особо дотошно он расспрашивал о пребывании в тюрьме, о повешенном немцами переводчике Сушкове, о лохматом сокамернике Ефиме и других. Интересовался следователем СД, допрашивавшим Слободу в Немеже, лагерями, партизанскими отрядами, боями с карателями, побегами, именами предателей и полицаев, обстоятельствами побега со станции и произошедшей в деревне встречи с хозяином явки партизан Андреем.
От долгих ежедневных разговоров у Слободы опухло горло и до хрипоты осел голос, а подполковник все не унимался, задавая новые и новые вопросы – во что был одет Сушков, как говорил, на какую ногу хромал, когда точно его повесили, кто при этом присутствовал из немцев, какие особые приметы имел Ефим, где располагалась камера смертников, просил нарисовать план тюрьмы и маршрут, по которому водили на допросы по галереям в другое крыло здания, кто принимал лейтенанта на явке, указанной Андреем, и кому перепоручили помогать беглому узнику в дальнейшем, как шел, чем питался, сколько километров проходил в день…
Вопросы сыпались из него один за другим – не человек, а машина по выдаче вопросов. Но при всем том подполковник не был вредным – всегда в ровном расположении духа, чисто выбритый, не повышающий голоса, вежливый, не пытающийся запугать или напустить на себя важность некоего всезнайки, видящего на аршин сквозь землю, – он даже нравился Семену и, вернувшись после допроса в камеру, Слобода часто пытался успокоить себя тем, что Николай Демьянович обязательно во всем разберется, изменника разоблачат, и ему, Семену Слободе, дадут возможность искупить позор плена, пусть даже невольного, снова взяв в руки оружие.
Пускай рядовым, но скорее на фронт! Одна мечта – вырваться наконец из страшного круга, в который его загнала война, разорвать тиски судьбы, вернуться в привычное русло, почувствовать себя нормальным, полноправным человеком. Неужели этому никогда не суждено сбыться?
В те редкие ночи, когда его не вызывали на допросы, Семен мучился кошмарами или подолгу не спал, уставившись невидящими глазами в потолок и размышляя о том, как дальше сложится судьба. Спросить об этом подполковника? Ответит ли он, а если ответит, то что услышит дейтенант погранвойск Семен Слобода?
Иногда казалось – лучше ни о чем не думать, не спрашивать, пусть будет будет как будет: жить, подобно щепке, несомой водоворотом в неизведанную глубину жизненных вод. Однако человек – не щепка, особенно после того, как он прошел огонь и ад, ужас и позор плена фашистских лагерей, совершил несколько побегов и сумел сквозь все препятствия добраться до своих, донеся им страшную весть о предательстве, об измене! Разве может такой человек стать щепкой и смириться? Но как же тяжко оказаться вновь в камере! Теперь уже у своих, пусть даже и в столице…
«А на что еще ты рассчитывал, – останавливал он себя, прикуривая очередную папиросу и стараясь не обращать внимания на скопившуюся во рту горечь табака. – На что? На поцелуи, цветы, почетные караулы и гром оркестров, славящих героя? На лучезарные улыбки и предупредительность, усиленный паек и награждение орденами? “Классовая борьба по мере приближения к победе социализма обостряется”. Не сильнейшее ли проявление ее обострения война, на которой ты, волей судеб, оказался по другую сторону линии фронта?..»
В один из дней – Семен уже запутался во времени и плохо различал, утром или вечером его вызывали на допрос, – рядом с подполковником оказался довольно молодой человек, не старше тридцати пяти – сорока, с тяжеловатым подбородком и выступающими надбровными дугами. Под темными бровями поблескивали светлые зеленоватые глаза, глядевшие на Слободу с нескрываемым жадным интересом. На незнакомце была шерстяная гимнастерка с майорскими погонами.
«Что-то новое, – подумал пограничник, искоса посматривая на майора, – неужто начинается нечто важное, если появился этот человек? Зачем он здесь? Новый следователь?»
– Присаживайтесь, – как старому знакомому, кивнул Николай Демьянович, – товарищу надо с вами побеседовать.
Семен сел и привычно опустил руки между колен, ожидая вопросов. Майор начал методично расспрашивать о положении в оккупации, проверках на дорогах, партизанских отрядах, в которых воевал Слобода, о Немеже и тюрьме СД. Измученный бессонницей и кошмарами, неясностью своей судьбы и томительными многочасовыми допросами, Слобода отвечал неохотно, раз за разом повторяя то, что уже говорил раньше, но потом как-то разговорился и даже позволил себе немного поспорить с майором, когда речь пошла о тактике действий немцев против партизан. Сколько длился допрос, лейтенант не знал, но вернувшись в камеру, он повалился на тощий матрац, брошенный на нары, чувствуя, как устал.
На следующем допросе его вновь ожидал сюрприз – теперь рядом с подполковником сидел кряжистый мужчина с добродушно-хитроватым прищуром глаз, одетый в штатский двубортный костюм и рубашку с галстуком.
Наметанным глазом Слобода сразу угадал в нем военного: по тому, как тот держал спину, как говорил, по сдержанным жестам. Может быть, ему просто показалось, но военные люди, привычные к оружию и командам, сразу узнают друг друга в любой одежде и при любых обстоятельствах. Да и кто еще, кроме человека, носящего недавно введенные погоны, мог появиться здесь вместе с Николаем Демьяновичем? Тем более когда идет война.
Опять долгие расспросы все о том же, уточнение подробностей, просьба вспомнить еще что-нибудь существенное о Сушкове, хозяине явки на Мостовой, дом три, подробно рассказать о той ночи, когда бомбили станцию и удалось бежать с нее – сколько километров, ну, хотя бы примерно, он проехал в разбитом вагоне до того, как спрыгнул под откос, как шел до жилья, когда наткнулся на родник, как перебирался через речку, ее ширина, в каком направлении течет вода, как называлась деревня, где его прятали в подполе, фамилия старосты, как зовут хозяйку и ее детей?
И пошло-поехало – два-три часа дают отдохнуть, поесть, перекурить, и снова на допросы. То майор спрашивает, то он уходит и появляется человек в штатском, а то оба вместе начинают выворачивать Семена наизнанку своими вопросами. Дотошно, по несколько раз уточняя все вплоть до мельчайших деталей, требуя обязательно вспомнить, нарисовать схемку, попытаться восстановить и воспроизвести интонации разговоров в камере смертников, вновь рассказать, как он узнал, что Сушков работал переводчиком у немцев, повторять номера лагерей, фамилии и приметы сослуживцев по заставе, товарищей по партизанским отрядам. Веером рассыпали по столу фотографии и просили найти знакомых.
Семен перебирал карточки, всматриваясь в незнакомые лица штатских и военных, в лица немцев в черных и армейских мундирах, и не находил знакомых. Ему снова показывали пачки фотографий – он откладывал в сторону карточки товарищей по училищу, называл их имена, рассказывал, откуда они родом, узнал бывшего командира заставы и политрука, недоумевая, – зачем это? Он уже достаточно давно здесь, могли запросить его личное дело и все проверить или разыскать тех, с кем он учился, чтобы провести опознание. Почему они так не поступили? Скрывают, что он у них? Скрывают, чтобы нигде не просочилась раньше времени принесенная информация?