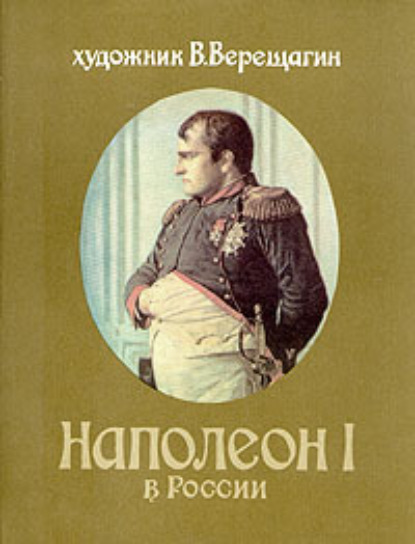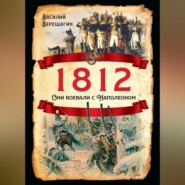По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Наполеон в России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Армия не только не отдохнула в Смоленске, как надеялась, но пошла дальше еще более расстроенная. Без сомнения, император надеялся придать своему беспорядочному бегству вид стройного и почетного отступления, так как, между прочим, приказал взорвать стены Смоленска под тем предлогом, как он выражался, «чтобы они не задержали его в другой раз» – точно будто и вправду можно было думать о новом нашествии, когда не знали, как вырваться, как развязаться со старым!
Раньше было сказано, что Наполеон ехал в карете, хорошо закрытой, наполненной мехами, одетый в соболью шубу, шапку и теплые сапоги, так что, конечно, не чувствовал никакого холода. Запершись с Мюратом в экипаже, он меньше рисковал подвергаться оскорблениям со стороны озлившихся людей и сам не имел постоянно перед глазами картин отчаяния и голода своих солдат, требовавших хлеба и хлеба. После Смоленска он много шел пешком и в продолжение пути, конечно, мог хорошо убедиться – в каком ужасном положении была его армия, испытывавшая в это время невыразимые бедствия.
В Днепре, а также в Семлевском озере император приказал утопить большую часть злополучных трофеев, а также множество орудий и всякого оружия. Однако, крест Ивана Великого он, несмотря ни на что, хотел-таки довезти до Парижа и протащил его, кажется, до Вильны.
Выше было уже помещено описание бедствий, постигших отступавшую великую армию, но подробности описаний очевидцев так характерны, интересны и поучительны, что я приведу еще несколько выдержек.
На каждом шагу встречались бравые офицеры, покрытые лохмотьями, опиравшиеся на сосновые палки; волосы и бороды в ледяных сосульках. Поминутно слышались их мольбы о помощи: «Товарищи, – кричал один раздирающим голосом, – помогите мне встать на ноги, дайте мне руку, хотелось бы не отставать от вас!» Все проходили мимо, даже не глядя на просившего. «Именем человечества, помогите, дайте мне подняться!..» Но товарищи не только не трогались этой просьбой, а еще считая такого слабого прямо погибшим, набрасывались на него и снимали всю одежду… Несчастие сгладило все положения и всех перемешало; напрасно некоторые офицеры выставляли свое право приказывать, командовать – никто не обращал внимания на этих командиров; голодавший полковник принужден был выпрашивать кусок сухаря у простого солдата, у которого они водились; имевший маленький запас провизии, хоть бы простой денщик, был окружен толпой куртизанов, откладывавших в сторону свои чины и отличия, льстивших и ухаживавших за счастливцем. Начальники, привыкшие повелевать, не сумевшие найтись в нужде, были самые несчастные люди – их прямо избегали, чтобы не оказывать им услуг.
"Друзья мои, помогите! Дайте мне подняться – я инженерный капитан, – жалостливо взывал один офицер. – Проходивший мимо гренадер остановился – «Как! Ты инженерный капитан?» – «Да, любезный друг, да!» – «Ну, так черти же свои планы!»
Дорога была покрыта солдатами, просто не имевшими человеческого облика, которых неприятель даже отказывался брать в плен. Многие от голода и холода обратились в идиотство, жарили и пожирали трупы товарищей или грызли свои собственные руки; некоторые были так слабы, что не могли принести полена дров или подкатить камень, и садились на замерзшие тела своих товарищей, устремивши тупой неподвижный взгляд в горящие уголья; скоро уголья потухали, а живые скелеты, не в силах будучи подняться, падали около тел, на которых сидели. – Многие, чтобы отогреться, клали свои голые ноги в середину костра…
Все корпуса перемешались; из их остатков устроилось множество маленьких отрядов, вернее групп, в восемь, десять человек, которые шли вместе, дружно, имея все общее. Каждая такая группа имела русскую лошаденку – cogna[18 - cogna (фр.) – конья (конь)], как они называли ее – для багажа, принадлежностей кухни, провизии; у всякого члена группы был еще на себе мешок, для запасов же. Все эти кучки жили совершенно особой жизнью и отгоняли всех, к ним не принадлежавших. Члены семьи шли, тесно сплотившись, и всячески старались не разделяться в толпе: беда тому, кто отставал от товарищей – он нигде не находил никого, кто бы принял в нем какое-либо участие или оказал какую-либо помощь: везде с ним обращались дурно, толкали, преследовали его; без милосердия отгоняли от огня и мест, где можно было приютиться; переставали травить его только тогда, когда он догонял опять своих.
«Мы составляли, – говорит Labaume, – шайку разбойников, между которыми ни личность, ни имущество не были в безопасности. Необходимость заставила нас сделаться ворами и мошенниками: не чувствуя ни малейшего стыда, мы воровали друг у друга все, что нравилось; поджоги, убийства, истребления во всех формах были вещами самыми обыденными, мы вполне освоились с преступлением; так же легко, как зажигали дом для того, чтобы минуточку погреться около пожара, – без церемонии отнимали у более слабого весь его запас, чтобы прокормиться самому…»
Несмотря на такое несчастное состояние армии, Наполеон приказывал иногда разные маневры, с каким результатом – это можно себе представить: части, которые можно было еще заставить исполнять движение, пробродивши по занесенным снегом дорогам, кончали тем, что возвращались назад, оставив во рвах артиллерию и багаж…
Печальный и жалкий вид имел, по словам одного очевидца, бивуак штаба. «В плохом сарае, едва покрытом, около небольшого огня, располагалось человек двадцать офицеров, вперемежку со столькими же слугами. Позади все лошади, вкруговую, как защита против ветра. Дым до того густ, что едва видны фигуры сидящих у самого огня и раздувающих пламя под котлом, в котором варится пища. Остальные, завернувшись в плащи и шубы, лежат вповалку, чуть не один на другом, для теплоты. Никто не двигается, лишь время от времени слышится ворчанье и брань тех, кто бродит наступая на людей, и ругань на ржущих лошадей или на искры костра, зажигающие шубы.»
Наполеон, шедший теперь по большей части пешком, хорошо видел состояние армии, но он не находил нужным сообщать Европе даже и части правды в своих бюллетенях. «Дороги сделались очень скользки, – говорит он в XXVIII бюллетене, – и очень трудны для упряжных лошадей – мы много их потеряли из-за холода и усталости.» Под Вязьмою: «Двенадцать тысяч человек русской пехоты, под прикрытием целых стай казаков, перерезали дорогу между герцогом Экмюльским и вице-королем. Герцог Экмюльский и вице-король пошли против них, согнали с дороги, загнали в лес, взяли в плен генерала со множеством пленных и 6 орудий; с тех пор не видали больше русской пехоты, только снуют казаки.» – Ни слова о множестве пленных, об орудиях и обозе, захваченных Милорадовичем в этом несчастном для французской армии деле, также и о том, что в это время великая армия уже потеряла около 40000 человек пленными, около 25 генералов, до пятисот орудий, до тридцати знамен и, кроме невероятного количества багажа, все московские трофеи, которые не успели сжечь или уничтожить. Если к этому прибавить также до 50000 человек, умерших от всяких бед или убитых в разных сражениях, со времени выхода из Москвы, то можно положить, что в армии оставалось не более семидесяти тысяч человек и между ними – с императорскою гвардией включительно – было только около 10000 способных держать оружие.
Кутузов строго приказал своим генералам не доводить неприятеля до отчаяния и в особенности самому Наполеону и старой гвардии, от которых ожидал отчаянного сопротивления, приказано было «строить мосты золотые» в том предположении, что если они и уйдут от холода и голода, то во всяком случае не перейдут Березины, где будут иметь дело с тремя армиями.
Только этим расчетом и можно было объяснить излишнюю осторожность, проявленную русским главнокомандующим при всех случаях, когда генералы его изъявляли намерение ударить на обессилевшего неприятеля и сразу покончить с ним и с войной. Французская армия, вернее, остатки ее, обязана своим спасением не престижу своему только, а и Кутузову с Чичаговым последнему более, чем кому-либо.
Впоследствии помянутых соображений Кутузова, император с его отборным войском не были беспокоимы на пути в Красное, но на следовавших за ним маршалов Даву и Нея сделано было серьезное нападение.
Под Красным Наполеон, после целого ряда нерешительных и противоречивых поступков, снова проявил былую находчивость и смелость: дерзким маневром задержал русских и дал возможность спастись остаткам двух своих отрядов.
Пока он маневрировал тут с гвардией около дороги, мимо него продефилировала вся невообразимая масса беглецов, не могшая защищаться и ни на что не годная. Несмотря на спокойствие, которое император старался показывать, видно было, что эти нищие, эти остатки когда-то непобедимого войска, произвели на него глубокое впечатление. Всю эту ночь он не спал и жаловался, что «не в состоянии выносить положения своего войска, что вид их раздирает его душу.»
Выше было помянуто о гибельных для великой армии делах Даву и принца Евгения в эти дни, также как и об достойном удивления отступлении маршала Нея, растерявшего весь свой двенадцатитысячный отряд, но спасшегося лично после невероятного плутания по снежным равнинам и лесам. Рассказывают, что Наполеон обедал с Бертье и Раппом, когда Гурго прискакал из Орши с известием о том, что маршал Ней жив! Император вскочил, схватил его за обе руки и спросил: «Да верно ли это?» – Узнавши, что сомневаться нельзя было, он воскликнул: «У меня двести миллионов в дворцовых погребах – я охотно отдал бы их за этого человека!»
Опять возобновились ускоренное отступление, нападения казаков и прочее.
«Представьте себе, если только это возможно, – говорит Rene Bourgeois, – шестьдесят тысяч нищих с мешками на плечах, с длинными палками в руках, покрытых рубищами, самыми грязными и самыми уродливо прилаженными, кишащими всякими насекомыми, и совершенно голодных! Прибавьте осунувшиеся физиономии, бледные, покрытые бивуачной грязью, почерневшие от дыма, глаза тусклые и впавшие, волосы в беспорядке, длинные отвратительные бороды – и все еще будете иметь только слабое представление об общей картине армии! Не было ни братьев, ни друзей, ни земляков, ни начальников. „Спасайся, кто может“, – было единственным лозунгом. Мы вели друг с другом отчаянную войну и можно сказать, что и в прямом и в переносном смысле сильный пожирал слабого. Куда ни взглянешь, везде сцены ужаса и варварства. С бешенством бросались на того, кого подозревали в укрывательстве провизии, вырывали ее у него, несмотря на сопротивление и ругательства. Постоянно слышно было, как лошади давили и колеса дробили кости трупов, вдавливая их в колеи.»
При таких ужасах, нельзя не удивляться тому, что все-таки хоть небольшая часть великой армии смогла добраться до границы и желанных зимних квартир и в виду этого небезынтересно проследить распорядки ежедневной жизни беглецов.
"Когда мы останавливались, – рассказывает Bourgogne, – чтобы перекусить, живо бросались к лошадям или покинутым, или таким, за которыми не было надсмотра, резали их, собирали кровь в кастрюлю, наскоро варили и ели. Когда случалось, что раздавался приказ выступать или подходили русские и нужно было утекать, кастрюли уносили с собою и ели из них походя, горстями, зато же и пачкались в крови.
Те, что гнушались есть своих товарищей и дохлых лошадей, питались только зернами, попадавшимися в лошадином корме. За место у огня платили по золотому.
Дрались из-за самого ничтожного предлога и самая ужасная брань разливалась в воздухе. Гнуснейшие ругательства, самые позорные названия бросались в лицо из-за пустяков. Обыкновенно все ссоры кончались тем, что кидались друг на друга с кулаками и палками; общее бешенство было так велико, что готовы были разорвать друг друга…
На остановках, как сумасшедшие, бросались в дома, сараи, навесы и всевозможные постройки, которые встречались, и в несколько мгновений наполняли их так, что нельзя было ни войти, ни выйти. Те, что не могли войти, устраивались снаружи, по возможности около стен. Первая забота была достать дров и соломы для бивуака, для чего лазили на соседние постройки, снимали крыши, стропила, чердаки, перегородки и кончали тем, что разваливали совсем постройку, несмотря на сопротивление, крики и угрозы тех, что были внутри. Эти выдерживали настоящую осаду и, делая время от времени вылазки на нападавших, отгоняли их, хотя ненадолго, потому что отступившие заменялись еще более сильными и настойчивыми. Приходилось уступать, наконец, силе и выходить, чтобы не быть погребенными под развалинами. Часто, когда невозможно было силою войти в дом, его зажигали снаружи, чтобы вытурить всех гревшихся внутри – это обыкновенно бывало, когда здание захватывалось генералами, выгонявшими раньше вошедших. Последние тогда угрожали зажечь дом и действительно приводили угрозу в исполнение. Несчастные офицеры с проклятиями бросались к выходам, падая и давя друг друга, чтобы спастись…"
Теперь даже высшее начальство говорило, что Наполеон завел свою армию в Москву, как Карл XII в Украину, что в военном отношении кампания испорчена нерешительностью в большой битве, а в политическом – пожаром Москвы; и что в свое время армия могла бы воротиться в добром порядке! Со времени вступления в Москву и русский главнокомандующий, и русская зима давали ведь хороший срок: один 40, другой 50 дней для отдыха и отступления. Горюя о потере времени в Москве и нерешительности, проявленной в Малоярославце, рассуждавшие высчитывали свои беды: с Москвы потеряли весь обоз и багаж, половину артиллерии, тридцать знамен, до тридцати генералов, сорок тысяч пленных, шестьдесят тысяч умерших, остается до 50000 безоружных бродяг и тысяч до десяти способных защищаться! С другой стороны, была большая ошибка оставить все дело прикрытия отступления армии и все ее магазины австрийцу, не поставивши в Вильне или Минске авторитетного начальника, который мог бы восполнять ошибки и недочеты в действиях австрийской армии. Вся армия обвиняла Шварценберга в измене, хотя сам Наполеон молчал, может быть из политики, а может быть потому, что не ожидал от этого союзника большего усердия.
Наполеон старался остановить общее разложение и упадок духа: наедине он, как помянуто уже, крепко горевал о страданиях солдат, но публично делал вид, что невозмутим, и отдал приказ, «чтобы всякий занял свое место, иначе начальников он будет разжаловать, а солдат – расстреливать.» Но эта угроза не произвела никакого действия на людей, которые, конечно, меньше боялись смерти, чем продолжения такой жизни.
В Орше Наполеон сжег собственными руками свои вещи, чтобы они не достались неприятелю. Тут пропали документы, собранные им для истории своей жизни, которою он хотел заняться, отправляясь в эту кампанию. Он рассчитывал тогда победоносно и угрожающе остановиться на Двине и Березине, и за 6 месяцев зимней скуки заняться составлением своих воспоминаний. Все эти предположения и надежды разлетелись теперь.
Явился слух о том, что Минск занят Чичаговым, и что, следовательно, путь отступления в опасности, но император не придавал этому большого значения, потому что был уверен в обладании переправы через Березину, в Борисове. Тамошний мост был защищен хорошею крепостью, занятою польским полком. Наполеон был так спокоен на этот счет, что, для облегчения армии, еще в Орше приказал сжечь все понтоны. Каково же было после этого узнать, что действительно город Борисов, командующий переправой через Березину, взят Чичаговым!
Интересно описание минут, следовавших за получением Наполеоном известия о занятии русскими переправы через Березину, сделанное одним офицером молодой гвардии – вот оно дословно: "16/24 ноября мы шли большою дорогой, по направлению к Борисову. До города было уже не очень далеко. Бонапарт шел, как и все мы, с палкою, он был одет в меховую шубу и шапку и шел по середине дороги в нескольких шагах от меня, следом за князем Невшательским (Бертье). Кругом было как-то тоскливо тихо и спокойно – когда мы увидели шедшего к нам навстречу офицера. Это был состоявший при главном штабе полковник de F. Он остановился перед князем и отрапортовал ему что-то – я расслышал только слова «Березина» и «русские». Все остановились, так же и Бонапарт, который был шагах в шести от начальника штаба и от полковника. Я придвинулся немного, чтобы разузнать, в чем дело. Слышу, Бонапарт спрашивает сердито: «Что он там толкует? Что он толкует? Что он толкует?» – Князь приказал полковнику повторить донесение Бонапарту. – Как теперь слышу:
de F. – Г-н маршал поручил мне уведомить о том, что русская Молдавская армия пришла к Березине и завладела всеми переправами.
Бонапарт. – Это неправда, это неправда, это неправда!
de F. – Что две неприятельские дивизии завладели мостом и занимают уже левый берег; также, что река замерзла недостаточно для перехода по льду.
Бонапарт (с гневом). – Вы лжете, вы лжете, это неправда!
de F. (хладнокровно и тоном повыше) – Меня не посылали проверять положение неприятеля; г-н маршал послал меня с этим донесением, и я исполняю свой долг.
Видя, что Бонапарт стал шевелить своей палкой, я подумал, что он хочет ударить ею полковника; но в эту минуту он, с широко расставленными ногами, откинулся назад и, опираясь левою рукою о палку, со скрежетом зубов, кинул к небу свирепый взгляд и поднял кулак! Настоящий крик бешенства вырвался из его груди, он повторил свой жест угрозы и прибавил короткое и выразительное слово… само по себе составляющее богохульство. Уверяю вас, что в жизнь мою я не видел более ужасного выражения лица и всей фигуры! Он, очевидно, совсем забыл о старании, с которым скрывал до сих пор перед нами свои ощущения и старался казаться веселым, чему, конечно, никто не верил. Мы так внимательно следили за всеми его движениями и были до такой степени поражены виденным, что опомнились только, когда он приказал продолжать путь."
"Эту ночь Наполеон не спал, – рассказывает Сегюр. – Дюрок и Дарю, считая его уснувшим, тихонько разговаривали об отчаянном положении, в котором очутились, не зная, что он все слышал; когда они произнесли слово «государственный пленник», он не вытерпел и подал голос: «Так вы думаете, что они осмелятся?» Дарю, сначала удивленный, ответил, что, если ему придется сдаться, он должен быть готов ко всему; что нельзя рассчитывать на великодушие неприятеля, так как политика в широком смысле слова не признает обыденной морали и действует самостоятельно.
«А Франция, – спросил Наполеон, – что скажет Франция?»
«О! Что касается Франции – об ней можно загадывать, что угодно, но трудно сказать, что именно в ней произойдет. – Самое лучшее, – прибавил Дарю, – и для нас и для вашего величества было бы, если бы хоть по воздуху, коли нельзя по земле, вы перенеслись как-нибудь во Францию, откуда спасли бы нас вернее, чем оставаясь здесь.»
– Значит, я вас стесняю? – спросил Наполеон.
– Да, ваше величество.
– А вы не хотите быть государственными пленниками?
Дарю ответил ему в том же духе, т.е. шутя, что «с него довольно быть и военнопленным».
На это император ничего не ответил, а после долгого молчания спросил: все ли донесения сожжены?
– Ваше величество не хотели ведь делать этого?
– Ну так подите сейчас сожгите все – надобно сознаться, что мы в неважных обстоятельствах!.."
Маршалу С. -Сиру строго приказано было прогнать русских за реку; он это и исполнил, тем не менее вопрос о том, как ее перейти под неприятельскими пушками, не имея готовых понтонов, оставался открытым и волновал в армии всех, от мала до велика.
Надежда пройти между русскими армиями была потеряна: под ударами Кутузова и Витгейнштейна, толкавших французов к Березине, приходилось немедленно переходить через реку, несмотря на угрожающее положение Чичагова на другой стороне ее. С 23 ноября Наполеон приготовился к этому отчаянному шагу. Остатки кавалерии, поставленной под начальство Латур-Мобура, еще быстро убавились и оставалось уже всего сто пятьдесят человек. Император собрал всех офицеров, еще сидевших на лошадях, и назвал этот отряд, приблизительно в 500 человек, своим «Священным эскадроном»; начальники дивизии служили в нем капитанами; Груши и Себастиани назначены были командирами его. Наполеон приказал еще, чтобы все лишние экипажи были сожжены и чтобы ни один офицер не имел более одного, чтобы была сожжена половина всех фургонов и повозок во всех корпусах и лошади из-под них были отданы в гвардейскую кавалерию.
Вскоре отступавшие толпы наткнулись на армию маршала Виктора, ожидавшего прихода Наполеона.
"Еще в хорошем составе, мало пострадавшая, она приветствовала своего императора обычными восторженными возгласами, давно уже не слышанными между московскими беглецами, – говорит Сегюр, – эти солдаты совсем не знали о бедствиях главной армии, так что когда вместо стройных колонн покорителей Москвы, они увидели за Наполеоном толпу скелетов, покрытых лохмотьями, женскими кацавейками, обрывками старых ковров или грязнейшими остатками плащей, порыжелых, прожженных, которых ноги были обернуты в обрывки всевозможных рубищ – они были поражены! Настоящие солдаты с ужасом глядели на несчастных воинов, совсем осунувшихся, с лицами какого-то землистого цвета, обросших бородами, безоружных, толпившихся как стадо, с опущенными головами и глазами.