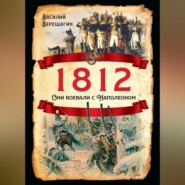По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
1812. Они воевали с Наполеоном
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
По мере того, как французы занимали громадный город, они все более и более поражались его мертвенным покоем и пустынностью – полная тишина кругом невольно заставляла и их соблюдать молчание, нервно прислушиваться к гулко раздававшемуся стуку лошадиных копыт о мостовую. Самым храбрым было не по себе от этой пустоты – при длине улиц не было возможности с одного конца различать людей на другом, и трудно было разобрать, кто там впереди двигался, друг или враг! Случалось, что, охваченные безотчетным страхом, одни части войска бежали перед другими, своими же…
Солдат Bourgogne наивно выражает свое удивление пустому виду города: «Мы были очень удивлены, не видя никого: хотя бы какая-нибудь дамочка послушала нашу полковую музыку, наигрывавшую мотив «победа наша!». Мы не знали решительно, чему приписать эту полную тишину: этакий славный город и вдруг молчаливый, угрюмый, пустой! Слышен был только шум наших шагов, барабанов и музыки – конечно, и с нашей стороны было не очень-то много разговоров! Мы только посматривали друг на друга и про себя, признаться, думали, что жители, не смея показаться на улицах, смотрят на нас в щелки ставней: оттуда ведь легко было смотреть, так что самих их не было видно. Ну как же, в самом деле: можно ли было подумать, чтобы такие богатейшие дворцы, такие красивые богатые постройки были брошены владельцами… Через час примерно после нашего прихода начались пожары; конечно, полагали мы, какие-нибудь грабители из наших же заронили по нечаянности огонь… Уж никак не могли и думать, чтобы народ этот был такой варвар – решился бы сжечь свою собственность и уничтожить один из лучших городов в свете».
«Во всех этих богатых домах и дворцах, – рассказывает Labaume, – мы находили только детей, стариков да русских офицеров, раненных в предыдущих битвах. В церквах престолы были убраны как для праздника: по множеству зажженных свечей и лампад перед образами святых видно было, что до самого ухода набожные москвичи молились. Эти разительные картины народной набожности и приверженности к религии возвышали в наших глазах побежденный народ и наводили стыд на нас за сделанную ему несправедливость… Иногда под невольным впечатлением страха мы чутко прислушивались: воображение, нервно настроенное среди громадного покоренного города, заставляло нас ждать везде засад и слышать то шум и бряцание оружия, то будто крики дерущихся…»
«Простой офицер очутился квартирантом превосходно меблированных помещений, в которых мог считать себя полным хозяином, так как не видел никого, кроме покорного, униженного дворника, дрожащею рукой предоставлявшего ключи ото всего…»
«Я оставила свою квартиру 25 августа (6 сентября), – рассказывает г-жа Фюзиль, актриса московского французского театра. – Проходя городом, я была поражена трогательным зрелищем: улицы были пусты, кое-где только встречался прохожий из простого народа. Вдруг я услышала вдали какое-то жалостное пение – подойдя, увидела громадную толпу мужчин, женщин и детей с образами, в предшествии священников, поющих священные гимны; нельзя было без слез смотреть на эту картину населения, покидающего город со своими священными предметами… Вдруг меня позвали: придите, пожалуйста, взглянуть на явление в небе, это удивительная вещь – точно огненный меч – верно, быть беде! И в самом деле, я увидела нечто совершенно необыкновенное, настоящее знамение…»
По разным указаниям можно считать приблизительно во сто двадцать тысяч число вошедших в Москву войск; но, исключая гвардию, французские войска на другой же день вышли из нее и расположились по окрестностям; гвардия, как выше замечено, заняла Кремль. В Москве поместились испанцы, португальцы, швейцарцы, баварский корпус, виртембергский и саксонцы. Этим постоянным пребыванием в городе «союзного элемента» и надобно, вероятно, объяснить необычайность совершенных в Москве жестокостей.
По улицам встречалось множество отставших от своих частей русских солдат. Fezensac говорит, что он один остановил человек 50 их и отослал в главный штаб. «Генерал, которому я передал об этом, выразил сожаление, зачем я не расстрелял их всех, и сказал, что на будущее время он самым положительным образом рекомендует мне так разделываться с ними».
Тем временем пожары не только не прекращались, а все более разгорались.
«Страшно было, – рассказывает оставшаяся в Москве молодая девушка из купеческого семейства. – Наши жгли Москву!» – «Говорили, что свои жгут Москву, – рассказывает другой, – чтобы Бонапарте из нее выгнать.
Правда или нет, того я не знаю; но что наш дом подожгли, то это верно!»
Видели, например, что из одного дома (Куракина) вышел управляющий с четырьмя лакеями, которые палками гнали перед собою пьяного человека в белом армяке, радостно кричавшего: «Как хорошо горит!» Люди Куракина объяснили, что он только что поджег дом и они ведут его к французам. Его немедленно расстреляли.
Судя по этим и многим другим свидетельствам, можно заключить, что Москва была сожжена исключительно самими русскими; однако вернее, кажется, принять, что город сожжен не по обдуманному заранее намерению, а просто, во-первых, потому, что был наполовину деревянный, а во-вторых – достался в руки неприятеля. Сначала пожар приписывали Ростопчину, который писал, между прочим, Багратиону, что, в крайнем случае, решился, «следуя русскому правилу: «не доставайся злодею!» – обратить город в пепел!» К тому же заключению приводило и то обстоятельство, что он позаботился вывезти все пожарные инструменты. Но после, по расследованию, дело поджогов оказалось более случайным, что удостоверил и сам Ростопчин: «Главная черта русского характера, – говорит он в своем объяснении, – скорее уничтожить, чем сдать врагу, пусть никому не достается… Когда наполеоновская армия заняла город, многие из генералов и офицеров отправились в Каретный ряд, где были главные магазины экипажей, выбрали и отметили своими именами то, что каждому понравилось. Владельцы лавок, с общего согласия, чтоб не быть поставщиками своих врагов, зажгли магазины». Это объяснение весьма правдоподобно и, кажется, может быть принято.
Французы сначала приписывали дело неосторожности своих и немало казнились этим. «Много офицеров прибежало укрыться во дворце, – говорит Sequr. – Начальство, сам маршал Мортье, тридцать шесть часов уже боровшийся с пожаром, просто падали от изнеможения!.. Все молчали, все мы обвиняли себя. Всем казалось, что пьянство и отсутствие дисциплины французских солдат начали беду, а буря раздула, разнесла ее… Нам просто противно было смотреть друг на друга… Что скажет об нас Европа?! Заговаривали нерешительно, потупивши взоры, в отчаянии от такого страшного бедствия, омрачавшего нашу славу, вырвавшего у нас плоды ее, угрожавшего, наконец, нашей жизни – мы были армиею преступников, которых провидение должно было покарать, так же, как и цивилизованный мир… Эти досадные мысли стали рассеиваться только известиями о том, что жгут сами русские! Офицеры, являвшиеся с разных сторон, согласно показывали одно и то же, сомневаться было нельзя!..»
«В среду утром, – рассказывают французы, – поднялся ураган, и огонь начал свирепствовать с невероятной силой. В один час он разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство, по ту сторону реки, превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося опустошение и ужас. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки, и, вследствие расширения воздуха от теплоты, буря еще более усиливалась; никогда Господь Бог в гневе своем не являл людям зрелища ужаснее этого: огонь решительно повсюду, грабители преследуют своих жертв, а бежать некуда! Церкви горят и дома горят. Просто ад кипит и со всех сторон все рушится… Бревна горят и катаются по улицам, головни так и сыплются; листовое железо летит с крыш, жара такая, что не продохнешь, а мостовая раскалилась, жжет ноги. Колокольни в огне, колокола срываются, падают…»
«Пожар продолжал распространяться, – говорит Labaume, – и скоро захватил лучшие кварталы города. В минуту все чудесные здания, которыми мы восхищались, были охвачены и уничтожены пламенем. Их превосходные фронтоны, украшенные барельефами и статуями, с шумом и треском летели на остатки колонн. Церкви, хоть и крытые железом, тоже рушились, а с ними и чудесные колокольни, сиявшие серебром и золотом, которыми накануне еще мы любовались. Госпитали, со множеством раненых, загорались также, и сцены, в них происходившие, раздирали душу. Почти все эти несчастные погибли, а немногие, еще державшиеся на ногах и дышавшие, полуобгорелые, выползали из-под груд обломков и пепла; многие, придавленные грудами трупов, старались освободиться на свет Божий…»
Легко представить себе, каким печальным размышлениям должен был предаваться Наполеон, бывший это время в Петровском дворце; по всей вероятности, он не смыкал глаз, как и все несчастные жертвы этой ночи, потому что около 6 часов утра один из его адъютантов отправился в ближний лагерь и попросил г-жу О., спасавшуюся там, явиться к его величеству. У ворот дворца встретил их маршал Мортье и провел до большого зала, где, в амбразуре окна, ждал ее Наполеон. – «Вы очень несчастливы, сударыня, как я слышал?» – спросил Наполеон и затем в продолжение часа расспрашивал ее об разных предметах…
Велики же должны были быть затруднения завоевателя, если он обращался к этой даме за советом политики и администрации. Наполеон спрашивал, между прочим, что она думает об идее освободить крестьян. «Я думаю, ваше величество, – ответила она, – что они не поймут, что вы хотите сказать этим».
Не следует думать, что одна эта дама удостоилась такой чести: к нему приводили немало умников, нисколько не затруднявшихся давать советы, так как он на них напрашивался, а им советы ничего не стоили.
«Как описать все, происходившее в городе, отданном на грабеж, – говорит очевидец, – солдаты, маркитанты, преступники из тюрем и публичные женщины бегали по улицам, врывались в покинутые дома и выхватывали оттуда все, что могло им приглянуться. Одни накутывали на себя шелковые с золотом одежды, другие взваливали на плечи, сколько могли, без разбора, всяких мехов; там одевались в женские и детские шубки, солдаты и всякая уличная сволочь разодевались в придворные одежды. Толпы бросались к погребам, выбивали двери и, перепившись, шатаясь, уносили награбленное. Это безобразие не ограничивалось только покинутыми домами: солдаты врывались во все жилые квартиры и насиловали всех попадавшихся женщин. Когда генералы получили приказание выехать из Москвы, распущенность достигла крайнего предела: солдаты, не сдерживаемые присутствием начальства, дошли до чудовищного безобразия, не жалели ничьих убежищ, не щадили ни церковных, ни каких других украшений и богатств».
«Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский собор в Кремле с гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. В этом чаянии гренадеры спустились с факелами в подземелье и взрыли, перебудоражили самые гробы и кости почивших…»
«Мы надеялись, что хоть ночь скроет от нас эти ужасы, но пожар сделался еще ужаснее в темноте: пламя, расстилавшееся с севера на юг, упиралось в небо, закрытое густым дымом. Просто леденела кровь от усилившихся еще с темнотою криков несчастных, которых мучили и убивали, воплей девушек, искавших спасения у своих матерей и только еще больше разжигавших этим ярость палачей. К этим воплям присоединялся вой собак, по московскому обычаю, прикованных в цепях у ворот домов и сгоравших вместе с ними…»
«Сквозь густой дым виднелись вереницы экипажей, нагруженных добычею и поминутно останавливавшихся; слышались крики возчиков, боявшихся сгореть, погонявших лошадей, протискивавшихся вперед со всевозможными ругательствами…»
«Мы встретили еврея, – рассказывает Bourgogne, – который рвал на себе бороду и пейсы при виде горевшей синагоги, которой он был раввином. Так как он болтал немного по-немецки, то мы поняли, что вместе со многими другими своими одноверцами он снес в храм все, что имел наиболее ценного…» «Не могу себе представить, – говорит этот очевидец, – что бедный еврей, среди таких бедствий, не утерпел, чтобы не спросить нас, нет ли у нас чего-нибудь для продажи или промена… Он принужден был, несмотря на все отвращение, поесть с нами окорока… Стрелки, набравшие на монетном дворе слитков серебра, обещали ему променять их».
«Когда мы вошли с ним в самый еврейский квартал, оказалось, что в нем все выгорело дотла – приятель наш при виде этого вскрикнул и упал без чувств. Через минуту он открыл, однако, глаза, и мы, давши ему оправиться, стали спрашивать, чего он так испугался; он дал понять, что дом его сгорел, а с ним, вероятно, и вся семья. Сказавши это, он снова впал в беспамятство…»
«Везде вооруженные солдаты, уходя, разбивали двери, будто боясь оставить дом неограбленным, и если новые вещи были или казались лучше прежде захваченных, они бросали старые, хватали новые, и когда повозки не могли более вместить, уносили целые горы на себе. Пожар часто преграждал им дорогу; тогда они возвращались назад и бродили по незнакомому городу из улицы в улицу, ища выхода из лабиринта огня. Несмотря на крайнюю опасность, жадность грабителей толкала их лезть прямо в огонь: в крови по трупам пробирались они туда, где рассчитывали что-нибудь найти, несмотря на то, что уголья и горящие головни падали им на головы и на руки. Конечно, они погибали бы там, если бы невыносимый жар не выгонял их, наконец, и не заставлял убегать в лагерь».
Земля была до такой степени нагрета, что нельзя было приложить к ней руку – жгло. Ноги прожигало через подошвы обуви. Растопленная медь и другие металлы смешивались в одну струю, текли по улицам, как уверяют свидетели.
Иностранцы дивились тому, как русские жители, по-видимому, хладнокровно смотрели на свои горящие дома, должно быть, вера поддерживала их, потому что, не крича, не ломая рук и не беснуясь, они выносили из домов образа, ставили их перед дверьми и, крестясь, уходили.
«Собрались мы, – рассказывает одна мещанка, решившаяся вместе с другими бежать из города, – к старушке Поляковой; она стоит у киота и лампаду перед иконами зажигает, а сама нарядилась, словно на праздник собралась: вся в белом и на голове белый платок. Что это вы, бабушка, или не знаете, что дом загорелся? Заберем скорее ваши вещи, да и уйдем с Богом: мы за вами пришли. А она говорит: «Спасибо вам, мои голубчики, что не забыли меня, а я свой век в этом доме прожила и не выйду из него живая. Как он загорелся, я надела свою подвенечную рубашку и нарядилась, как покойница. Стану на молитву, и за молитвой застанет меня смерть, я готова». Начали мы представлять резоны, что зачем, мол, вам идти на мученическую смерть, когда Господь вам помогает спастися? – «Я, говорит, не сгорю, я задохнусь, пока огонь до меня дойдет; ступайте, пора, уж и сюда дым пробирается, а мне еще помолиться надо – простимся, и уходите с Богом». Обняли мы ее, а сами рыдаем. Она нас всех благословила, и слезы у нее на глазах навернулись. «Простите меня, говорит, грешную, если в чем перед вами провинилась, а моих увидите – передайте им мой последний поклон». Мы ей поклонились в ноги, как покойнице. В комнате стоял уже густой дым…»
Скромное имущество монахинь Алексеевского монастыря, спрятанное в кладовую, было разграблено; солдаты нарядились в монашеские ряски… Несколько человек поселились в келье игуменьи, где пировали двое суток и приглашали к себе молодых монахинь – одна добровольно пошла на позор, осталось известно и имя ее. «До смерти хотелось нам, немногим оставшимся молодым монашенкам, – рассказывает одна, – узнать, что там делается;
мы все забились в одну комнату, отворили дверь да и стали выходить помаленьку; а подбежала старуха-монахиня: «Куда? – говорит, – сейчас назад! Вы уж и рады на военных-то глазеть! срамницы этакие! Вишь как все раскраснелись! путные бы побледнели от страху»… Была у нас одна монахиня, как их, бывало, встретит, так и выругается – они ничего! Пошла она раз к колодцу воды накачать; француз вежливо подскочил помочь ей ведра поднять – как она на него накинется! «Станем, говорит, мы после твоих поганых рук воду пить! Убирайся, окаянный, а не то я тебя оболью!» Другой бы, кажется, осерчал, а он засмеялся и отошел».
«В Рождественском монастыре придумали молодых монахинь сажей вымазать… Идут они двором, а навстречу французы – тотчас их окружили; старухи-то начали отплевываться и показывать, что клирошанки гадкие, черные. Рассмеялись французы. Стояла тут бочка с водой, один из них налил воды в ковш и показывает им, чтобы умылись. Они сробели и хотели бежать. Французы их догнали и начали их умывать. Девочки кричат и старухи кричат, а французы помирают со смеху. Как их вымыли, начали говорить: жоли филь!»
По собранным мною сведениям, как и по словам многих очевидцев, сами французы немилосердно расстреливали наших, были, в частном обращении, справедливее и жалостливее, чем их союзники. Священник Казанской церкви села Коломенского, близ Москвы, рассказывал мне, со слов своего покойного тестя, что тот, будучи мальчиком, спрятался от французов в печку и, когда вечером, соскучившись и проголодавшись там, начал плакать, они его вытащили, обласкали и утешили сахаром.
Вся священная утварь этой церкви была похищена солдатами, но священник пошел к Мюрату, остановившемуся невдалеке, и со слезами умолил возвратить вещи, нужные для богослужения, – их разыскали и отдали ему;
надпись на одном из серебряных сосудов свидетельствует об этом.
Древний старичок деревни Новинок, помнящий стоявшего у них «француза», уверял меня, что неприятель не сделал им большого зла – только кормился их добром.
Неприятели не знали, что в Кремле находился пороховой склад, и непредусмотрительно поместили там гвардейский артиллерийский парк, на открытом воздухе, так что достаточно было одной из головешек, носившихся в воздухе, упасть на зарядный ящик – вся гвардия, все начальство с самим Наполеоном пропали бы. В продолжение многих часов участь армии зависела от всякой искры, рассыпаемой пожаром.
«Что же это ваши русские делают? – выговаривал русскому один французский генерал, – видано ли когда-нибудь, чтобы так жгли свою столицу?» – «Я не знаю, кто ее поджигает, но последствия этого для нас самые печальные». – «Это верно ваши казаки?» – «Полноте, где вы теперь увидите тут хоть одного казака?»… – «Черт возьми, они у ворот города! Вчера только что на этой самой дороге мы их прогнали; могу вас в этом уверить, потому что я сам командовал. Так не ведут войны!»
Другой французский офицер говорит иначе: «Хотя несчастные последствия московского пожара падали на нас, тем не менее, мы не могли не удивляться великодушному самопожертвованию жителей города, храбростью и настойчивостью поднявшихся до высокой степени славы, характеризующей великие нации»… Этот же писатель удивляется стойкостию русских, приговоренных к расстрелянию: «Перед казнью каждый старался протискаться вперед, чтобы первым принять удар. С видом полного спокойствия они крестились и падали под пулями солдат».
Один из московских католических священников, тоже очевидец, говорит: «Солдаты не щадили ни стыдливости женского пола, ни детской невинности, ни седых волос старух… горемычные обитатели, спасаясь от огня, были принуждены укрываться на кладбищах».
«Церковная утварь, образа и все священные вещи верующих, – говорит аббат, – были пограблены или позорно выброшены на улицы. Священные места были превращены в казармы, бойни и конюшни; даже неприкосновенность гробниц была нарушена. Никогда, конечно, города, даже взятые приступом, не подвергались большим поруганиям». Один из французских офицеров сознавался, что со времени революции не видано было такого беспорядка в армии…» «Все улицы были полны человеческими трупами, перемешанными с падалью лошадей и других животных… Здесь кричали караул, и голоса замирали, захлебываясь в своей крови; там жители выдерживали в домах настоящую осаду, защищая свои очаги, уже ограбленные и переограбленные, против окончательного разорения от пьяного солдатства, доведенного до бешенства вином и этими попытками сопротивления».
«В других местах тащили по улице чуть не голых мужчин и женщин и с ножом у горла требовали открытия спрятанных будто бы сокровищ. Все двери лавок были настежь открыты, продавцы в бегах, товары разбросаны повсюду… Не успевала одна шайка мародеров уйти из дома, как другая врывалась и не оставляла ни рубашки, ни какого-нибудь сапога».
На улицах эти дни жителям нельзя было показываться даже и с конвоем, так как сама охрана грабила, а в случае крика или жалоб била до полусмерти. Ограбленные одевались потом во что попало, часто по-женски; грабители же почти все щеголяли в шляпах, украшенных цветами или перьями, в кофтах, в женских башмаках. Даже французские офицеры принимали участие в этом смешном маскараде. Начинал сказываться холод, и атласные меховые шубки отлично служили для защиты от него, зато их носили даже на лошади, поверх военной формы.
Мыслимо ли было скрыть что-нибудь от людей, воевавших и грабивших во всех углах Европы? Разбивались и осматривались камины и печи; глубоко рылись в земле, засовывали туда шпаги и штыки. Как сказано, разрывали кладбища, особенно свежие могилы, вскрывали гробы, сбрасывали больных с кроватей и рылись в тюфяках. Лимонные и апельсинные деревья и горшки с цветами в оранжереях сбрасывались, обшаривались – не было ли в горшках запрятано что-нибудь. Даже когда проносили мертвое тело для погребения, его останавливали и осматривали…
Однако один живший в Москве англичанин перехитрил-таки французов. Он вырыл глубокую яму, опустил на дно свои сундуки и засыпал землею. Потом, оставя до поверхности 2 аршина пустого места, положил туда мертвого французского солдата. Неприятели, приметив, что земля тут вырыта, начали было копать, но, увидя своего мертвого собрата, оставили работу.
«Нельзя себе представить картину Москвы в эти дни, – говорит Перовский, – улицы покрыты выброшенными из домов вещами и мебелью, всюду слышны песни пьяных солдат, крики грабящих, дерущихся между собою. Многие французские офицеры весьма серьезно пеняли на то, что не могут найти ни сапожника, ни портного, чтобы исправить обувь или одежду, – они как будто имели на то полное право и жаловались на нас…»
Усатые-разусатые гренадеры ходили в священнических ризах, треугольных шляпах, другие в женском салопе с епитрахилью на шее или в женской мантилье, в шароварах, с каской или в белом плаще с алым кокошником на голове. Старый воин щеголял в дьяконовском стихаре. Тут всадник верхом в монашеской рясе, с красным пером на шляпе, здесь куча солдат в женских юбках, завязанных около шеи.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: