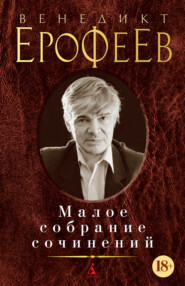По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Москва – Петушки. С комментариями Эдуарда Власова
Жанр
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все давились от смеха. Всех доконала, главное, эта глухонемая бабушка.
– А где же он теперь, твой Евтюшкин?..
– А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь в Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит в Сибири…
– Верно говоришь, – поддержал я ее. – В Средней Азии не умрешь, в Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов – был. Он говорит: идешь, идешь, видишь – кишлак, а в нем кизяками печку топят, и выпить ничего нет, но жратвы зато много: акыны, саксаул… Так он там и питался почти полгода: акынами и саксаулом. И ничего – приехал рыхлый и глаза навыкате…
– А в Сибири?..
– А в Сибири – нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж «поесть». Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца – и негры на них вешаются…
– Да что еще за негры? – встрепенулся декабрист, чуть было задремавший. – Какие в Сибири негры! Негры в Штатах живут, а не в Сибири! Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?..
– Был в Штатах! И не видел там никаких негров!
– Никаких негров? В Штатах?..
– Да! В Штатах! Ни единого негра!..
Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, что ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы, со шрамом и без зубов, – все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные – забылись; один только юный Митрич, чтоб в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка…
– Значит, вы были в Штатах, – мямлил черноусый, – это очень и очень чрезвычайно! Негров там нет и никогда не было, это я допускаю… я вам верю, как родному… Но – скажите: свободы там тоже не было и нет?.. свобода так и остается призраком на этом континенте скорби? скажите…
– Да, – отвечал я ему, – свобода так и остается призраком на этом континенте скорби, и они так к этому привыкли, что почти не замечают. Вы только подумайте! У них – я много ходил и вглядывался, – у них ни в одной гримасе, ни в жесте, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку. «Отчего бы это? – думал я и сворачивал с Манхеттена на 5-ю авеню и сам себе отвечал: – От их паскудного самодовольства, и больше ниотчего. Но откуда берется самодовольство??» Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль: «В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов – откуда столько самодовольства?» Я шел в Гарлем и пожимал плечами: «Откуда? Игрушки идеологов монополий, марионетки пушечных королей – откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день, и очень плотно, и все с тем же бесконечным достоинством – а разве вообще может быть аппетит у хорошего человека, а тем более в Штатах!..»
– Да, да, да, – кивал головою старый Митрич, – они там кушают, а мы почти уже и не кушаем… весь рис увозим в Китай, весь сахар увозим на Кубу… а сами что будем кушать?..
– Ничего, папаша, ничего!.. Ты уже свое откушал, грех тебе говорить. Если будешь в Штатах – помни главное: не забывай старушку-Родину и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине. Ты помнишь, что он писал?..
– Как же… помню… – и все выпитое выливалось у него из синих глаз, – помню… «мы с бабушкой уходили все дальше в лес…»
– Да разве ж это про Родину, Митрич! – осоловело сердился черноусый. – Это про бабушку, а совсем не про Родину!..
И Митрич снова заплакал…
Назарьево – Дрезна
А черноусый сказал:
– Вот вы много повидали, много поездили. Скажите: где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев?
– Не знаю, как по ту. А по эту – совсем не ценят. Я, например, был в Италии, там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет. А другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий – поодаль – поет про того, кто рисует… И так от этого грустно! А они нашей грусти – не понимают…
– Да ведь итальянцы! – разве они что-нибудь понимают! – поддержал черноусый.
– Именно. Когда я был в Венеции, в день святого Марка, – захотелось мне посмотреть на гребные гонки. И так мне грустно было от этих гонок! Сердце исходило слезами, но немотствовали уста. А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: «Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит, как поебанный!» Да разве ж я как поебанный! Просто – немотствуют уста…
Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: «Ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят: «Далась тебе эта Помпея! Ступай в Геркуланум!..»
Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мажино, и вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго, койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмиро Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер… А чем хуже Луиджи Лонго?..
А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: «Если ты хочешь учиться на бакалавра – тебе должно быть что-нибудь присуще как феномену. А что тебе как феномену присуще?» Ну, что им ответить? Я говорю: «Ну что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота». «Из Сибири?» – спрашивают. Говорю: «Из Сибири». «Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей – что присуще?» Я подумал: это все-таки не Храпуново, а Сорбонна, надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: «Мне как феномену присущ самовозрастающий Логос». А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хряснет меня по шее: «Дурак ты, – говорит, – а никакой не Логос! Вон, – кричит, – вон Ерофеева из нашей Сорбонны!» В первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго…
Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дама, иду и удивляюсь: кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль, ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки!..
По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют – из бардака в клинику, из клиники опять в бардак. И кругом столько трипперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским Полям – а кругом столько трипперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу: двое знакомых – она и он, оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? в газетах? не помню; короче, узнал: это Луи Арагон и Эльза Триоле. «Интересно, – прошмыгнула мысль у меня, – откуда они идут: из клиники в бардак или из бардака в клинику?» И сам же себя обрезал: «Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы…»
Догоняю Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего – а он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю и теперь уже говорю не Луи, а Триоле: говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться, тогда как в минуты отчаяния я сомнений не знал… – а она, как старая блядь, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла…
Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди, это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак – я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я двенадцать трубок – и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск иммер элегант». Эссе по вопросам любви.
А вы сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси: «Какой это шанкр, твердый или мягкий?» – он обязательно брякнет: «Мягкий, конечно». А покажи ему мягкий – так он и совсем растеряется. А там – нет. Там, может быть, не знают, сколько стоит зверобой, но уж если шанкр мягкий, так он для каждого будет мягок, и твердым его никто не назовет…
Короче, «Ревю де Пари» вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете? – я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще тринадцать трубок – и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все, от начала до конца, было написано по-французски, русским был только заголовок: «Стервозность как высшая и последняя стадия блядовитости». И отослал в «Ревю де Пари»…
– И вам опять его вернули? – спросил черноусый, в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон…
– Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею – ложной. К русским условиям, – сказали, – возможно, это и применимо, но к французским – нет; стервозность, сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя; у вас, у русских, ваша блядовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена онанизмом по обязательной программе; у нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского онанизма, с программой более произвольной, в нашу отечественную содомию, в которую – через кровосмесительство – трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной блядовитости и совершенно перманентно!..
Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями – и через Верден попер к Ламаншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал: «Почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго?» Я шел и пел: «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены…» А в окрестностях Лондона…
– Позвольте, – прервал меня черноусый, – меня поражает ваш размах, нет, я верю вам как родному, меня поражает та легкость, с какой вы преодолевали все государственные границы…
Дрезна – 85-й километр
– Да что же тут такого поразительного! И какие еще границы?! Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница – это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую – меньше пьют и говорят на нерусском…
А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там, может быть, и рады куда-нибудь поставить пограничника, да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела, тоскуют и просят прикурить… Так что там на этот счет совершенно свободно… Хочешь ты, например, остановиться в Эболи – пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Каноссу – никто тебе не мешает, иди в Каноссу. Хочешь перейти Рубикон – переходи…
Так что ничего удивительного… В двенадцать ноль-ноль по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея, фамилия у него какая-то звучная и дурацкая, вроде сэр Комби Корм. «Чего вы от нас хотите?» – спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали, вот чего я хочу…»
«Это в таких-то штанах чтобы я вас стал ангажировать?» – сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» – переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках чтобы я вас ангажировал?»
– В каких же это носках?! – заговорил я, уже досады и не скрывая. – В каких же это носках?! Вот те носки, которые я таскал на Родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и…
А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал: «Лорды! вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьяный. Что мне с ним делать, с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? или не давать этому пугалу никакого ангажемента?» А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят: «А ты попробуй, Уильям! попробуй, выставь его для обозрения! этот пыльный мудак впишется в любой интерьер!» Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула:
– Контролеры! Контролеры!.. – загремело по всему вагону, загремело и взорвалось: «Контролеры!!..»
Мой рассказ оборвался в пикантнейшем месте. Но не только рассказ оборвался: и пьяная полудремота черноусого, и сон декабриста, – все было прервано на полпути. Старый Митрич очнулся весь в слезах, а молодой ослепил всех свистящей зевотой, переходящей в смех и дефекацию. Одна только женщина сложной судьбы, прикрыв беретом выбитые зубы, спала как фатаморгана…
Собственно говоря, на петушинской ветке контролеров никто не боится, потому что все без билета. Если какой-нибудь отщепенец спьяну и купит билет, так ему, конечно, неудобно, когда идут контролеры: когда к нему подходят за билетом, он не смотрит ни на кого – ни на ревизора, ни на публику, как будто хочет провалиться сквозь землю. А ревизор рассматривает его билет как-то брезгливо, а на него самого глядит изничтожающе, как на гадину. А публика – публика смотрит на «зайца» большими, красивыми глазами, как бы говоря: глаза опустил, мудозвон! совесть заела, жидовская морда! А в глаза ревизору глядят еще решительней: вот мы какие – и можешь ли ты осудить нас? Подходи к нам, Семеныч, мы тебя не обидим…
До того, как Семеныч стал старшим ревизором, все выглядело иначе: в те дни безбилетников, как индусов, сгоняли в резервации и лупили по головам Ефроном и Брокгаузом, а потом штрафовали и выплескивали из вагона. В те дни, смываясь от контроля, они бежали сквозь вагоны паническими стадами, увлекая за собой даже тех, кто с билетом. Однажды, на моих глазах, два маленьких мальчика, поддавшись всеобщей панике, побежали вместе со стадом и были насмерть раздавлены – так и остались лежать в проходе, в посиневших руках сжимая свои билеты…
Старший ревизор Семеныч все изменил: он упразднил всякие штрафы и резервации. Он делал проще: он брал с безбилетника по грамму за километр. По всей России шоферня берет с «грачей» за километр по копейке, а Семеныч брал в полтора раза дешевле: по грамму за километр. Если, например, ты едешь из Чухлинки в Усад, расстояние девяносто километров, ты наливаешь Семенычу девяносто грамм и дальше едешь совершенно спокойно, развалясь на лавочке, как негоциант…
Итак, нововведение Семеныча укрепляло связь ревизора с широкою массою, удешевляло эту связь, упрощало и гуманизировало… И в том всеобщем трепете, который вызывает крик «Контролеры!!» – нет никакого страха. В этом трепете одно лишь предвосхищение…