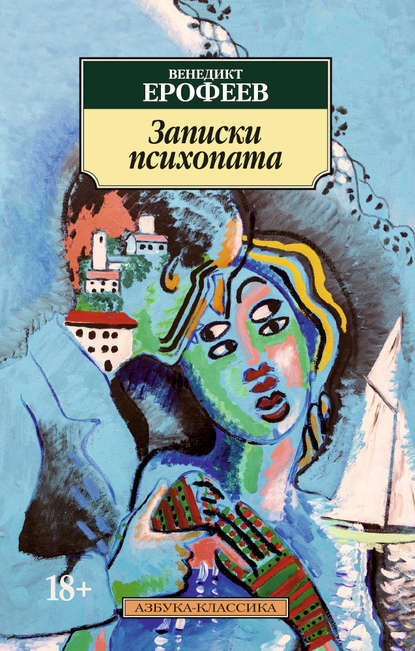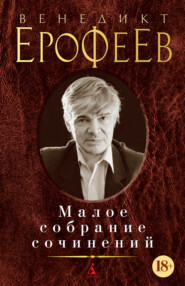По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Записки психопата
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1.20., в отместку за шевелюрные страдания шутливо определил ее «жирной полуношницей» – и затем, внешне погрузившись в пролетарскую философию, упивался трогательной молчаливостью и похвальной терпеливостью оскорбленной.
С 1.30 до 2.00. выражал недовольство ее мрачностию, убийственно заискивал и лицемерил, предпринимал отчаянные попытки рассмешить оскорбленную и к 2-м часам с удовлетворением констатировал обоюдное ржание.
В 2.00. – решили занять угловой стол и выкурить Рубцова.
С 2.00. до 2.30. дискутировали насчет Космоса нарочито громкими голосами, одновременно констатируя мысленно раздражительное воздействие дискуссии на Рубцова и на Космос.
В 2.30. – облегченными вздохами и пантомимическим хихиканьем проводили до угла изможденного Рубцова – и решили откровенничать и безобразить.
С 2.30 до 2.45. жгли старые открытки, произносили над огнем заклинания, хихикали и осуждали западные моды.
В 2.45. – Музыкантиха доставила внушительную груду своих фотокарточек, и под угрозой физического воздействия я вынужден был восхищаться каждой в отдельности.
С 2.45 до 3.30. – созерцали фотографии, безнравственно хихикая, пинаясь под столом ногами и осуждая аморальное поведение коридорной пары.
В 3.30. – умственно плевали на фотографии и решили незамедлительно сжечь негодные.
С 3.30. до 4.00. – жгли, меланхолически любовались пламенем, разменивались комплиментами, курили и предприняли несколько неудачных попыток завязать драку.
В 4.00. я вынужден был храбро встретить прилив материнской ласки со стороны моего оппонента и отверг ее полушутливое предложение кровью подписать совместный клятвенный контракт.
С 4.00. до 4.30. – взвешивали все способы вытягивания друг из друга крови для подписания «контракта», дружно осуждали алкоголизм и восхищались мрачностию фланирующего мимо В. Муравьева.
С 4.30. до 4.45. безуспешно пробовали стричь друг другу ногти и столь же тщетно пытались определить, чьи конечности чище и эстетнее.
В 4.45 я презрительно обнажил всю безидейность ее предложения выйти подышать свежим воздухом и посидеть в снегу.
С 4.45. до 5.00 – освятили своим присутствием комнату Никоновой, жаловались на однообразие трофеев. Пили из горлышка лимонад, грызли яблоки, изучали траекторию летящих огрызков; при воспоминании о Мичурине продемонстрировали обоюдный скепсис.
5.00. – совершенно некстати вспомнили 15-е декабря, постигли весь ужас имевшего места инцидента, обменялись мрачными взглядами и не менее мрачными идиоматическими выражениями.
В 5.15. с похвальным единодушием изъявили желание заниматься.
С 5.15. до 5.45. нехотя читали, изредка перехихикиваясь и надменно следя эволюцию трамвайного парка.
В 5.45 дружно протирали глаза и выражали ужас перед лицом Времени и Бессонницы.
С 5.45 до 6.15. флегматично хлопали глазами, курили, лениво друг друга оскорбляли, внимая треску репродукторов и будильников.
В 6.15 – по-прежнему флегматично сдули пепел со стола, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.
Только и всего.
И все прежние дни – так.
Так что уж и без похабных намеков, Л.С!
27 декабря
Пусть Время туго обтягивает свои прелести!
Все равно – не прельстит! —
Последние четыре проползут бесследно! —
И <этот отвратительнейший год> с грохотом полетит в пизду!!
6.15. ночи.
28 декабря
«…Он! Он объяснился! Я на крыльях влетела в общежитие и весь вечер занималась с упоением…»
(Р. Гуржибекова, «Дневник», стр. 531)
«…И угораздило же меня, братцы, втюриться в эту Р. Гуржибекову… Тут, понимаете ли, Бомарше на носу, Корнель и все такое прочее… Завтра, понимаете ли, нужно на зачет тащиться с утра, и на последнюю ночь я возложил такие надежды…
И вдруг – на тебе!
Сижу я это, значит у окна, рыгаю шницелем и цежу сквозь зубы: «Экгоф в роли Доримона – настоящий Доримон… Tot linguae quot membra viro…» вдруг вижу – едакой экстравагантной походкой и со стулом в обнимку приближается ко мне объект моей сессионной страсти… Ну я, понятное дело, без промедления пронзил взглядом ее перси с претензией на осетинскую пышность – и восхищенно процедил: «Этт, в алилуйство мать, а?» Она, конечно же, спервоначалу побледнела, то-бишь похолодела, потом это, значит, эвакуировала в толщу ланит весь запас своих эритроцитов и грузно опустилась на свою ношу…
Я, как истый сибиряк, незамедлительно смекнул, что даже самая развратная женщина, будь то хоть дьявол или студентка МГЭИ, – не будет румяниться, ежели постигнет благоуханную невинность подобной ситуации – что вот, мол, циничные взгляды подвергают массажу ее прелести и все такое прочее… Я, конечно же, без околичностей допер своим пролетарским умишком, что по нечаянности пронзил взглядом не только перси, но и то, что стыдливо прикрывается оными…
Но ведь вы сами понимаете, что у меня и в мыслях-то моих пролетарских не было охоты так глубоко пронзать… Ну, сами посудите, – начнутся вздохи и шевеления, а у меня Корнель на носу, Расин, Бомарше и все такое прочее… Я, конечное дело, унутренне исплевал высокие чувства и невозмутимо продолжал шамкать «Роксолану», периодически рыгая шницелем… А сам все смотрю идиотски на ее эти самые-то, хе-хе-хе, и стараюсь сдерживать в себе и отрыжки шницеля и позывы плоти… Но, в конце-то концов, – ведь я мужчина, и неуместное колыхание персей в такой опасной близости, граждане, смутит самого Кекконена… Я, понимаете ли, не мог равнодушно созерцать все эти вещички… Я стиснул зубы и, сдерживая дрожь в голосе, изрек: «Уйдите, милая, и не подымайте во мне»… так и сказал: «не подымайте во мне…»
И вот что, братцы, удивительно – она все поняла и поспешила обвертикалиться; но узрев всю прелесть ее необъятных и тем не менее удаляющихся бедер, – я вспыхнул, я прочувствовал в един секунд всю силу своих животных позывов… и я бы с удовольствием занялся самобичеванием, граждане, но – подумайте сами – завтра зачет, объяснение в деканате, Лесаж, Корнель, Расин, Д'Онэ, Дидро, Вольтер, Бомарше – и все такое прочее…»
(Ю. Романеев. «Избранные сенсации» стр. 27)
«И в 24 года – разрушена первая любовь!
Мгновения счастья утекли безвозвратно!..
Сегодняшний вечер окатил меня ушатом холодной воды.
Она сидела с Романеевым и любезничала.
И оба были красны и довольны.
За такие дела у нас в лагере морды били.»
(Н. Рубцов. «А уж я ли, кажется…», стр. 31)
«Милый ты мой, у тебя просто нет чутья. Я лично вполне одобряю романеевские вкусы; посмотри-ка на нее сбоку хорошенько – уэ-э-э-э! – а ежели с тыла – так натурально Елизавета Гассекс, Амалия Вейсе и, если угодно, – госпожа Дорсенвиль! Воплощенная кротость! Хе-хе-хе! Неизменный идеал! Непреходящий кумир! Идеолог телесной шедевральности!.. Трам-пам-пам…
Дика как лань, дитя Кавказа,
Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум…»
(В. Скороденко. «Половая аудиенция»)
«Я встал, застегнул ширинку, в последний раз затянулся горьковатым дымом папиросы и вышел в коридор. Необычная тишина заставила меня вспомнить о дневном шуме, когда этот коридор заполняется до отказа веселыми девушками и юношами, – они разговаривают об экзаменах, о любви. Но теперь все было тихо, и только слышны были на лестнице звуки ночных поцелуев. Эти звуки обострили мое одиночество и заставили вспомнить о догорающей любви… Да! Пепел, пепел – вот все, что осталось от ноябрьского увлечения… Погруженный в такие раздумья, я еще раз проверил, надежно ли застегнута ширинка, завернул за угол и вдруг увидел ее…
Она, сука, сидела с Романеевым и о чем-то беседовала… Я хотел было свернуть вправо, но вдруг увидел, как она неожиданно встала и направилась ко мне. Радости моей не было границ, я моментально вспомнил о прошлых ссорах с ней и сразу же простил ей все…
С 1.30 до 2.00. выражал недовольство ее мрачностию, убийственно заискивал и лицемерил, предпринимал отчаянные попытки рассмешить оскорбленную и к 2-м часам с удовлетворением констатировал обоюдное ржание.
В 2.00. – решили занять угловой стол и выкурить Рубцова.
С 2.00. до 2.30. дискутировали насчет Космоса нарочито громкими голосами, одновременно констатируя мысленно раздражительное воздействие дискуссии на Рубцова и на Космос.
В 2.30. – облегченными вздохами и пантомимическим хихиканьем проводили до угла изможденного Рубцова – и решили откровенничать и безобразить.
С 2.30 до 2.45. жгли старые открытки, произносили над огнем заклинания, хихикали и осуждали западные моды.
В 2.45. – Музыкантиха доставила внушительную груду своих фотокарточек, и под угрозой физического воздействия я вынужден был восхищаться каждой в отдельности.
С 2.45 до 3.30. – созерцали фотографии, безнравственно хихикая, пинаясь под столом ногами и осуждая аморальное поведение коридорной пары.
В 3.30. – умственно плевали на фотографии и решили незамедлительно сжечь негодные.
С 3.30. до 4.00. – жгли, меланхолически любовались пламенем, разменивались комплиментами, курили и предприняли несколько неудачных попыток завязать драку.
В 4.00. я вынужден был храбро встретить прилив материнской ласки со стороны моего оппонента и отверг ее полушутливое предложение кровью подписать совместный клятвенный контракт.
С 4.00. до 4.30. – взвешивали все способы вытягивания друг из друга крови для подписания «контракта», дружно осуждали алкоголизм и восхищались мрачностию фланирующего мимо В. Муравьева.
С 4.30. до 4.45. безуспешно пробовали стричь друг другу ногти и столь же тщетно пытались определить, чьи конечности чище и эстетнее.
В 4.45 я презрительно обнажил всю безидейность ее предложения выйти подышать свежим воздухом и посидеть в снегу.
С 4.45. до 5.00 – освятили своим присутствием комнату Никоновой, жаловались на однообразие трофеев. Пили из горлышка лимонад, грызли яблоки, изучали траекторию летящих огрызков; при воспоминании о Мичурине продемонстрировали обоюдный скепсис.
5.00. – совершенно некстати вспомнили 15-е декабря, постигли весь ужас имевшего места инцидента, обменялись мрачными взглядами и не менее мрачными идиоматическими выражениями.
В 5.15. с похвальным единодушием изъявили желание заниматься.
С 5.15. до 5.45. нехотя читали, изредка перехихикиваясь и надменно следя эволюцию трамвайного парка.
В 5.45 дружно протирали глаза и выражали ужас перед лицом Времени и Бессонницы.
С 5.45 до 6.15. флегматично хлопали глазами, курили, лениво друг друга оскорбляли, внимая треску репродукторов и будильников.
В 6.15 – по-прежнему флегматично сдули пепел со стола, пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись.
Только и всего.
И все прежние дни – так.
Так что уж и без похабных намеков, Л.С!
27 декабря
Пусть Время туго обтягивает свои прелести!
Все равно – не прельстит! —
Последние четыре проползут бесследно! —
И <этот отвратительнейший год> с грохотом полетит в пизду!!
6.15. ночи.
28 декабря
«…Он! Он объяснился! Я на крыльях влетела в общежитие и весь вечер занималась с упоением…»
(Р. Гуржибекова, «Дневник», стр. 531)
«…И угораздило же меня, братцы, втюриться в эту Р. Гуржибекову… Тут, понимаете ли, Бомарше на носу, Корнель и все такое прочее… Завтра, понимаете ли, нужно на зачет тащиться с утра, и на последнюю ночь я возложил такие надежды…
И вдруг – на тебе!
Сижу я это, значит у окна, рыгаю шницелем и цежу сквозь зубы: «Экгоф в роли Доримона – настоящий Доримон… Tot linguae quot membra viro…» вдруг вижу – едакой экстравагантной походкой и со стулом в обнимку приближается ко мне объект моей сессионной страсти… Ну я, понятное дело, без промедления пронзил взглядом ее перси с претензией на осетинскую пышность – и восхищенно процедил: «Этт, в алилуйство мать, а?» Она, конечно же, спервоначалу побледнела, то-бишь похолодела, потом это, значит, эвакуировала в толщу ланит весь запас своих эритроцитов и грузно опустилась на свою ношу…
Я, как истый сибиряк, незамедлительно смекнул, что даже самая развратная женщина, будь то хоть дьявол или студентка МГЭИ, – не будет румяниться, ежели постигнет благоуханную невинность подобной ситуации – что вот, мол, циничные взгляды подвергают массажу ее прелести и все такое прочее… Я, конечно же, без околичностей допер своим пролетарским умишком, что по нечаянности пронзил взглядом не только перси, но и то, что стыдливо прикрывается оными…
Но ведь вы сами понимаете, что у меня и в мыслях-то моих пролетарских не было охоты так глубоко пронзать… Ну, сами посудите, – начнутся вздохи и шевеления, а у меня Корнель на носу, Расин, Бомарше и все такое прочее… Я, конечное дело, унутренне исплевал высокие чувства и невозмутимо продолжал шамкать «Роксолану», периодически рыгая шницелем… А сам все смотрю идиотски на ее эти самые-то, хе-хе-хе, и стараюсь сдерживать в себе и отрыжки шницеля и позывы плоти… Но, в конце-то концов, – ведь я мужчина, и неуместное колыхание персей в такой опасной близости, граждане, смутит самого Кекконена… Я, понимаете ли, не мог равнодушно созерцать все эти вещички… Я стиснул зубы и, сдерживая дрожь в голосе, изрек: «Уйдите, милая, и не подымайте во мне»… так и сказал: «не подымайте во мне…»
И вот что, братцы, удивительно – она все поняла и поспешила обвертикалиться; но узрев всю прелесть ее необъятных и тем не менее удаляющихся бедер, – я вспыхнул, я прочувствовал в един секунд всю силу своих животных позывов… и я бы с удовольствием занялся самобичеванием, граждане, но – подумайте сами – завтра зачет, объяснение в деканате, Лесаж, Корнель, Расин, Д'Онэ, Дидро, Вольтер, Бомарше – и все такое прочее…»
(Ю. Романеев. «Избранные сенсации» стр. 27)
«И в 24 года – разрушена первая любовь!
Мгновения счастья утекли безвозвратно!..
Сегодняшний вечер окатил меня ушатом холодной воды.
Она сидела с Романеевым и любезничала.
И оба были красны и довольны.
За такие дела у нас в лагере морды били.»
(Н. Рубцов. «А уж я ли, кажется…», стр. 31)
«Милый ты мой, у тебя просто нет чутья. Я лично вполне одобряю романеевские вкусы; посмотри-ка на нее сбоку хорошенько – уэ-э-э-э! – а ежели с тыла – так натурально Елизавета Гассекс, Амалия Вейсе и, если угодно, – госпожа Дорсенвиль! Воплощенная кротость! Хе-хе-хе! Неизменный идеал! Непреходящий кумир! Идеолог телесной шедевральности!.. Трам-пам-пам…
Дика как лань, дитя Кавказа,
Пурум-пум-пум. Пурум-пум-пум…»
(В. Скороденко. «Половая аудиенция»)
«Я встал, застегнул ширинку, в последний раз затянулся горьковатым дымом папиросы и вышел в коридор. Необычная тишина заставила меня вспомнить о дневном шуме, когда этот коридор заполняется до отказа веселыми девушками и юношами, – они разговаривают об экзаменах, о любви. Но теперь все было тихо, и только слышны были на лестнице звуки ночных поцелуев. Эти звуки обострили мое одиночество и заставили вспомнить о догорающей любви… Да! Пепел, пепел – вот все, что осталось от ноябрьского увлечения… Погруженный в такие раздумья, я еще раз проверил, надежно ли застегнута ширинка, завернул за угол и вдруг увидел ее…
Она, сука, сидела с Романеевым и о чем-то беседовала… Я хотел было свернуть вправо, но вдруг увидел, как она неожиданно встала и направилась ко мне. Радости моей не было границ, я моментально вспомнил о прошлых ссорах с ней и сразу же простил ей все…