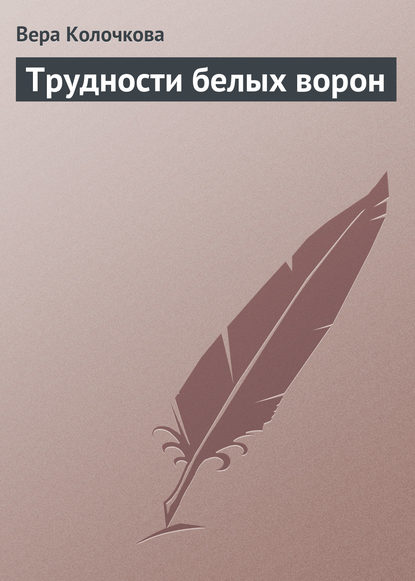По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трудности белых ворон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Значит, беременную я тогда ее выгнала. Шуганула значит, мать твою, прошу за каламбур прощения, по полной программе. А она вон как. Ай да Танечка – кто бы мог подумать… Видимо, и Петрову ничего не сказала, иначе он бы не допустил, чтоб ты его не знал совсем, он не из таких! Это сегодня растерялся просто – ты ж свалился, как снег на голову. Сейчас наверняка переживает сидит. Еще бы – ты ведь, знаешь, четвертый уже по счету…
– В каком смысле? – удивленно уставился на нее Илья.
– А до тебя еще трое внебрачных деток объявилось, представляешь? Два брата и сестренка.
– Да?!
– Так я ж и говорю – такой вот он, папаша твой…
Она снова замолчала, будто вмиг провалившись в те давние времена, снова увидела, как на картинке, и себя, маленькую неказистую фельдшерицу, и Петрова своего, и Танечку Гришковец-раскрасавицу. В самом деле, уж как Петрову было в нее не влюбиться: высокая, статная, в себе уверенная, вся из себя гордо-праздничная такая женщина, вот только глаза иногда очень уж серьезно-печальными бывали. Она еще и землячкой Петрова оказалась, как на грех. А ее, Анну, тогда совсем токсикоз замучил – второй, Сашка, не просто ей дался. Ходила страшная, злющая. И так-то никогда в красавицах не числилась, даже по молодости, а тут вообще расквасилась – без слез и не взглянешь. Вот и шуганула она Танечку с удовольствием – всю свою бабскую обиду на ней одной выместила. Да ее никто и не осудил тогда – все и так понятно было: жена беременная, а тут вдруг у мужа – очередная любовь. Теперь вот – нате вам…
– Что же. Как говорится, пришло время собирать очередные камни… – тихо вздохнула женщина, будто возвращаясь из прошлого и с грустной улыбкой глядя на Илью.
– Да ладно вам, Анна Сергеевна. Какие камни! Я посмотрел на него, и хватит. И уеду сегодня же. У меня поезд через два часа.
– А ты и правда на него зла не держи, мальчик! – будто не слыша, продолжала говорить она, снова вцепившись в рукав его куртки. – Он хоть и бабник, и крови моей попил достаточно, а мужик все равно достойный. Честный, порядочный, безотказный. Самый лучший хирург в городе! Такому все простить можно, так ведь?
– Да, Анна Сергеевна. Наверное.
Она снова резко развернула его к себе, снова с напряженным вниманием долго вглядывалась в его лицо. Наконец, грустно улыбнувшись, тихо и ласково проговорила:
– А ты очень на него похож, Илья. И на Сашку моего похож, на среднего сына…Да и Вовкино что-то есть… Петровская порода, в общем, ни убавить, ни прибавить. И походка у тебя, знаешь, такая же, и глаза, и голос…
– Спасибо, – расплылся вдруг в благодарной улыбке Илья. – Спасибо вам, Анна Сергеевна.
– Слушай, а пошли к нам! Надо ж тебе с братьями познакомиться! – совершенно неожиданно и для самой себя вдруг предложила она.
– Да нет, спасибо, у меня правда поезд через два часа, а еще до вокзала надо добраться! – торопливо отказался Илья. К тому же в кармане куртки уж совершенно некстати заверещал мобильник – наверняка мать звонит, как чувствует чего… Илья достал телефон, посмотрев в окошечко, нехотя нажал кнопку соединения и, отвернувшись в сторону от Анны Сергеевны, тихо, будто перед ней извиняясь, начал бормотать в трубку: – Да, мам, слушаю…Из института еду… Да, скоро буду дома, все в порядке у нас. Голос? А что голос? Нет, правда все хорошо, не волнуйся. Давление бабке меряю, конечно… Да… Ой, да все нормально, чего ты…Ну давай, все, пока…У меня батарея садится…
– А мама долго еще в Москве будет?
– Дня три еще, а что?
– Так оставайся! Все равно уж обманул мать! Семь бед – один ответ! – тихо продолжая удивляться благородному своему порыву, продолжала уговаривать его Анна Сергеевна.
– Да нет, я и правда не могу, – развел руки в стороны Илья. – Бабка же там одна. Она ведь старенькая уже, да и на костылях еще. И так только через трое суток дома буду! Можно было б на самолете, да дорого…
– А если б ты отца не нашел? А если бы он на операции был? Так бы и уехал?
– Так ведь нашел же!
– Ну, хоть на сутки останься! Он же потом изведется весь! Я ж его знаю…
– Нет, Анна Сергеевна, не могу. Правда, не могу. Спасибо вам.
– Ну ладно, ну что ж… Тогда я тебя до поезда провожу! Расскажи мне о маме…
– Нет, лучше вы мне еще про отца расскажите!
2
Задумавшись, Илья не заметил, как умял целых пять больших пирогов с капустой да два сваренных вкрутую яйца. От еды и правда полегчало, будто досада, в нем больной занозой засевшая, тоже урвала себе свой кусочек, согрелась да и свернулась в трубочку – спать залегла. Да и поезд показался не таким уж и неприютным – поезд как поезд, подумаешь. Он даже улыбнулся сам себе тихонько для бодрости, и тут же решил, что в панику от произошедшего с ним такого важного жизненного события впадать больше не станет, а совсем даже наоборот, постарается разложить все по полочкам: хорошее – к хорошему, плохое – к плохому. А потом и из плохого, следуя бабки Нориной теории, постарается извлечь для себя только хорошее, а иначе никак, иначе и жить нельзя. Одно только обстоятельство для Ильи было неисправимо-мучительным – как же он так отца своего, доктора Петрова этого, сильно под монастырь подвел… А с другой стороны – Америки-то он не открыл для жены его. Как она, эта Анна Сергеевна, лихо про мужа-то своего – вроде как ни одной юбки не пропустил. И с его матерью у него тоже вроде как случайно все получилось, и он, выходит, в его жизни – тоже случайный фактор…
Вспомнив о матери, он снова вздохнул горестно и уставился в серые февральские сумерки за окном – не дай бог еще и она узнает про тайное это его путешествие…
Боялся Илья не зря. Вообще, он рос добрым и спокойным мальчиком, и, казалось бы, хлопот особых матери своей, Татьяне Львовне, доставлять вовсе и не должен. Однако огорчал ее постоянно, потому что с катастрофической какой-то периодичностью умудрялся попадать в самые невероятнейшие истории. Виной же всему были его до смешного, а порой и до абсурда доходящие доброта и слепое наивное простодушие; они жили в нем, казалось, по собственным законам, и никаких материнских доводов об этой невероятной их абсурдности воспринимать не желали. Мальчик он был действительно странный – «сдвинутый, от жизни отодвинутый», как дразнили его с самых ранних школьных лет. Татьяна Львовна всегда очень болезненно воспринимала странное поведение сына, раздражалась и даже, как ему иногда казалось, стыдилась его немного, хотя и всячески пыталась скрыть это свое раздражение, убеждая сына в том, что наивные и благородные Дон-Кихоты нынче числятся в обыкновенных придурковатых неудачниках, что надо просто научиться «жить, как все» – то есть не раздавать себя направо и налево всем желающим, не терять времени на глупейшее созерцание и дурные рефлексии, а строить свою жизнь ярко, красиво, стремиться к мечте, к карьере, или к материальному хотя бы благополучию, и что нельзя, в конце концов, жизнь свою прожить только под лозунгом «надо творить добро»… Илья, слушая ее, в основном молчал. Он и сам не отдавал себе отчета, что поступками своими как-то «творит» это самое добро, просто у него так само собой получалось. Может, по инерции какой, без всякой на то внутренней рассудительной подоплеки. Молчал, потому что объяснить что-либо вразумительное про себя он ей никогда не мог, не получалось у него как-то.
Когда еще в школе учился – и очень хорошо, надо сказать, учился, – тоже никак не мог ей объяснить, почему вдруг в конце года выплывала у него двойка за отчетную контрольную, порушив тем самым надежду на итоговую годовую пятерку. Почему он так опрометчиво решает эту самую контрольную по математике в первую очередь не себе, а соседу по парте, хилому троечнику Гришуне, потом – симпатичной моднице Сонечке, а на свое задание уже просто времени не остается. Мать опять раздражалась, и опять слышать не хотела о том, что у Гришки злобный и жестокий отец, который бьет его смертным боем за каждую двойку – воспитывает так, а в Сонечку математика просто категорически не лезет, хоть тресни. И не потому, что она девочка и больше о нарядах думает, а потому, что у нее мозги так устроены – отторгают они все уравнения и формулы начисто – не оставаться же ей в школе навечно из-за этого. Жалость к Гришке и Сонечке перешибала в нем всяческое честолюбие отличника – зачем ему эта пятерка за контрольную, если он разом столько чужих проблем решить может? Главное – она в голове у него есть, пятерка-то эта. А в журнале школьном пусть себе и двойка поторчит на здоровье, подумаешь… И вовсе дело не в благодарности какой, не в тихом Гришкином «Спасибо, Гришковец!» и не в Сонечкином кокетливом «Молодец, Гришковец!». А дело все было в нем, в Илье. Он чувствовал, что устроен так. И ничего с собой поделать не мог. И программу, которая была в него каким-то хитроумным способом заложена, – «программу пресловутого альтруиста», как говаривала Татьяна Львовна, – тоже изменить не мог. А кличка эта дурацкая – Молодец-Гришковец – к нему еще с детства приклеилась. Илья даже и привыкнуть к ней успел. Хотя и звучало это опять таки странновато, вроде как Иванушка-дурачок… Но не у всех. У бабки, например, с мягкой иронией, у Андрея Васильевича, Татьяны Львовны «приходящего мужа» – с одобрением, у институтских его однокашников – как привычное уже погоняло, а вот у самой Татьяны Львовны, матери его – с горечью… Она не принимала его таким. Хотела, наверное, но не получалось у нее. Илья не обижался. Он и сам порой себя не понимал, чего уж…И еще – он очень жалел ее. И любил безумно. А получается – все равно обижал. Вот такой вот парадокс…
Правда, виделись они совсем редко. Татьяна Львовна дома бывала набегами, работала на двух, а то и на трех медицински-нищих своих ставках. Деньги зарабатывала. Однако когда Илья вознамерился было после школы поступить на вечернее отделение юридического института, чтоб тоже работать пойти, закатила вдруг жуткий скандал и потребовала от сына «нормального и полноценно-стационарного» образования, и еще – чтоб непременно красный диплом был. Тут же, смеясь, шутливо и пояснила – мол, потребность у нее такая образовалась, хочется ей красный диплом сына подержать в руках, и все тут. Илья не стал с ней тогда спорить. Просто решил – он обязательно ей этот красный диплом принесет, на тарелочке с голубой каемочкой… Раз ей так надо – пусть. Может, хоть таким образом компенсирует ее раздражение по поводу странных своих поступков. И в самом деле: то он новую куртку замерзающему на улице бедолаге отдает, то холодильник опустошает начисто для соседских мальчишек, у которых родители в пятидневном запое пребывают… Не сын, а сплошной убыток. И по-другому он не мог, прям как наркоман какой. Внутри вдруг в самый критический момент будто лампочка какая загоралась, мигала тревожно и сигналы подавала, и разум блокировала полностью, – вот он и бросался очертя голову, в неведомом каком-то порыве и не помня себя навстречу чужому горю…
Илья вздохнул тяжело, помотал головой из стороны в сторону. Досада на себя, так хорошо уснувшая было всего час назад, вдруг снова зашевелилась, разворошила быстренько память, вынеся на ее выпуклую поверхность тот полный последний кошмар, который он сотворил с матерью всего четыре года назад. Он тогда еще в восьмом классе учился…
Вызвал его тогда в подъезд Колька Ларионов, сосед с первого этажа, и, трясясь от ужаса, рассказал, что его на счетчик посадили какие-то отморозки, и сумма порядочная уже набежала – не отдать ему никогда. И нет у него другого выхода – только из дома бежать куда глаза глядят, чтоб не нашли… Не родителям же рассказывать – еще хуже будет. А бежать ему и некуда совсем было. И просил-то Колька у него хоть сколько-нибудь денег – на первое время в бегах своих перебиться. Ну, лампочка эта дурацкая у него внутри и зажглась на полную мощность… Пошел да и взял у матери деньги, что она на шубу себе копила. Все взял, до копеечки. Чтоб на весь этот Колькин долг хватило. Не думал он тогда ни о матери, ни о шубе ее, вообще ни о чем таком не думал – все куда-то на задний план перед этой Колькиной бедой отступило. И даже вечером, когда сам ей во всем признавался, еще в себя так и не пришел – смотрел на нее удивленно да ресницами своими длинными моргал – чего это она…
А Татьяне Львовне в тот момент по-настоящему плохо стало. Вдруг такой ужас на нее напал от осознания того, кем же вырос, кем пошел в эту жизнь ее сыночек, что потемнело в глазах и показалось, земля ушла из-под ног. И даже мысль черная и коварная в голове неожиданно промелькнула: а нормальный ли он вообще, может, его срочно психиатру показать надо… Плюхнувшись с размаху на стул, она слушала его перепуганный лепет и изо всех сил пыталась понять, что ж это такое происходит с ее сыном, и что такого срочного ей надо с ним предпринять…
– Понимаешь, я не мог, мама, – выставив перед собой ладони и преданно глядя ей в глаза, пытался робко обосновать свой поступок Илья. Увидев такую ее реакцию на это свое признание, он и сам уже будто испугался содеянного, и трясся весь внутри, как осиновый листочек. – Мам, ну прости… Все равно ж надо было как-то спасать Кольку-то… А она, мам, судьба-то его, прямо в мои глаза как взглянула, так и не смог я. Ни одна ведь шуба не стоит судьбы человеческой, правда? Правда же, мам? – в отчаянии зажав лицо руками, твердил Илья, и взглядывал на нее просительно, и снова трясся…
Татьяна Львовна долго ничего ответить ему не могла. Сидела, выпрямив спину, смотрела мимо куда-то в кухонное пространство. А потом будто опомнилась вдруг, кричать начала:
– Немедленно… Ты слышишь, немедленно иди и верни мне мои деньги! Это я их заработала, понимаешь? Я! И мне плевать на всех твоих Колек и на их проблемы, вместе взятые! Я твоя мать, я! И ты меня любить должен, понимаешь?! И никого больше! А я – тебя! И все! И все!
А потом размахнулась и с силой ударила Илью по щеке. Тяжелой рукой ударила, от души, от отчаяния своего злобного да с годами уже поднакопившегося. Может, и по другой бы так же ударила, да в комнату мать ее с теткой вошли, Вирочка с Норочкой, молча положили на стол аккуратненький такой пакетик, в старую газетку завернутый.
– Вот, Таня, возьми, мы тут на старость кое-чего отложили. Это тебе на шубу. Не бей его, пожалуйста!
Татьяна Львовна тогда как развернула газетку, да как увидела стопочку тысячных бумажек, любовно разглаженных, одна к одной сложенных, – так и зарыдала в голос. Кое-как они ее и успокоили, наперебой оглаживая по трясущимся крупной лихорадочной дрожью плечам да приговаривая ласково-успокаивающе:
– Танечка, мальчик же не на водку и наркотики деньги взял, он человеку помочь хотел…
– Танечка, мы сейчас поговорим с ним, а ты успокойся, иди отдыхать! А завтра себе шубу новую купишь! А нам деньги зачем? Нам и пенсии хватает. А заболеем – так ты нас сама же и вылечишь!
Потом, уже в своей комнате, и состоялся у Ильи с Вирочкой да Норочкой тот памятный разговор, который действительно посеял в душе у него большие сомнения и который заставил его враз засомневаться в такой уж необходимости этих ярчайших своих душевных порывов.
Нет, они совсем его не ругали и не стыдили. Они вообще этого никогда не делали. Просто умели убеждать так, что ему и самому за свой поступок несколько неуютно становилось. Умели они разобрать всю ситуацию по косточкам, по зернышку-ядрышку, умели увидеть в самом, казалось бы, благородном порыве человеческом его неприятно-мутную, оборотную сторону правильной золотой медали. Вот и в этом случае выходило, по их разумению, что этот порыв его не что иное и есть, как эта самая пресловутая оборотная сторона, и нет ни у кого права выпрыгивать на чужую жизненную дорогу, что иногда в порыве сделанное добро на деле есть для другого самое настоящее зло, потому как лишает его сладкого счастья собственного, жизненно необходимого преодоления. Тем более, когда добро это творится за чужой счет – материнских, к примеру, слез по поводу не купленной на зиму шубы… И сколько он с ними ни спорил отчаянным своим фальцетом из-за приключившейся не к месту юношеской ломки голоса, сколько ни доказывал свою истину, выходило все равно так, что кругом они правы оказывались: и в том, что нельзя опрометчиво подставлять искреннее свое простодушие под людскую хитрость, которую он этим самым простодушием только искушает вовсю, и в том, что учиться надо как-то распознавать эту самую хитрость, и в том, что иногда наступает крайняя такая необходимость – надо себя самого для самого себя же и сберечь бережно, а не лезть напролом в чужую проблему, как вот в Колькину, например. И все это у них так ловко да незаметно выходило, все в спорах да в разговорах, да с любовью искренней, без всякого там стыда, недовольства да гневного раздражения…
Они вообще любили с ним поспорить, бабки его, Вирочка с Норочкой. А особенно Норочка ярой спорщицей была. Еще и смеялась потом всегда – если, мол, не поумнеешь, так хоть говорить хорошо да правильно научишься, что в адвокатской твоей карьере будущей и не помешает совсем…
А насчет Кольки он погорячился, конечно. Зря битый час им правоту свою доказывал – это уж позже выяснилось, что Колька вообще никуда сбегать вовсе и не собирался, обманул его просто. А деньги, от Ильи полученные, в автоматах игровых спустил. Правы, правы оказались драгоценные его Вирочка с Норочкой. И подружки, и няньки, и воспитательницы. Умные, интеллигентные, все понимающие – золото, а не бабки. И такая от них любовь плотной волной всегда исходила – руками потрогать можно, если захочется. Вот он в этой плотной любви и вырос, по выражению Татьяны Львовны, «будто овощ в жарком парнике». А еще Татьяна Львовна искренне полагала, что именно они – Вирочка с Норочкой – ее сына и испортили, залюбили вконец и от жизни реальной отодвинули – совсем уж белой вороной сделали, и нет будто в жизни людей несчастнее, чем эти самые, которые белые вороны и есть…Илья, конечно же, поутих тогда надолго после этого случая. Мать огорчить боялся. Помалкивал да книжки читал запоем, полностью почти в себя ушел, чтоб ни видеть, ни слышать…И пришла ему вдруг однажды, как открытие, в голову мысль: если человек так артистически-мерзко лжет, используя эту его мгновенно самовозгорающуся внутри лампочку, то, выходит, этому человеку совсем, совсем уж плохо. Выходит, он несчастнее вдвойне, втройне самого что ни на есть распоследнего бедолаги, судьбой обиженного, и жалеть его, выходит, надо не просто так, а больше даже – вдвойне, втройне больше. Вот тогда и почувствовал он в себе еще одну странную способность, о которой долго никому не мог рассказать, даже бабкам…
А год назад Вирочка умерла. Илья пришел из института – нет ее, в морг увезли. Инфаркт. И осталась бабка Нора одна. Он на занятиях целый день, Татьяна Львовна на работе – некому ей даже и костыли подать. Хотя Норочка и не жаловалась никогда, но Илья видел, как ей трудно. Мало того – она еще и еду норовит приготовить для всех, и утром все пытается раньше встать да завтраком его накормить. Еще будильник не прозвенит, а она уже костылями в кухне стучит, тарелками гремит…
Татьяна Львовна, когда мать похоронила, сразу к тетке переселилась, сыну комнату освободила. «Ты уже большой», – объяснила она ему свой поступок, – «У тебя своя, собственная территория должна быть». Илья, как мог, сопротивлялся – вовсе не нужна была ему никакая такая территория. Но мать, как всегда, на своем настояла, и пришлось ему это обстоятельство все-таки принять, как удар по сыновней его совести. Потому что территория эта ей и самой крайне была необходима для устройства собственной личной жизни, которая, какая-никакая, а все же иногда имела место быть: Татьяна Львовна вот уже пять лет подряд встречалась с очень хорошим, по ее разумению, мужчиной – драгоценным своим Андреем Васильевичем, и связью этой очень дорожила, и покорно и трепетно ждала со дня на день предложения руки и сердца от женатого своего друга. Илье же и Норочке она давно про Андрея Васильевича все объяснила, и даже поделилась некоторыми подробностями – что у них не все так просто, что у него в той семье дочка, и что он, как человек глубоко порядочный, не может вот так сразу, с бухты-барахты взять ее да и бросить. А Илья к Андрею Васильевичу давно уже попривык. И за нерешительность такую даже уважал – дочка все-таки. И вообще, считал хорошим мужиком, правильным. Тем более он, как и его родной отец, доктор Петров, тоже хирург…
Он вдруг улыбнулся, вслушавшись в это невероятное созвучие – доктор Петров… Красиво-то как, господи. Как музыка…А если еще взять и отбросить эту противную досаду, приказать ей замолчать категорически раз и навсегда, то и совсем хорошо звучит. В тот же миг, вместе с услышанной этой музыкой, пришло к нему и радостное осознание правильности своего поступка – как же хорошо все-таки, что он его нашел, и что съездил к нему – тоже хорошо. Зато теперь знает: он – есть. Он, его отец, живет на свете доктором Петровым из Краснодара, обаятельнейшим мужиком с пронзительно-горячими, очень умными и грустными глазами. И жена у него хорошая тетка. Когда поезд тронулся, она еще бежала за вагоном, кричала: «Ты телефон не оставил! Позвони мне сам в больницу! Обязательно позвони!» Потом стояла, долго еще вслед рукой махала…
За окном поезда совсем стемнело, вагон мерно и плавно покачивало на быстром ходу. От выпитого горячего чая Илью разморило, глаза начали слипаться сами собой. В очередной раз он позвонил бабке Норе, пожелал ей спокойной ночи и заснул крепким здоровым сном двадцатилетнего юноши – обладателя непонятных, самовозгорающихся от чужого горя лампочек, большого, доброго сердца да успокоенной ощущением выполненного сыновнего долга души – кому-то кажущейся до смешного простой, а кому-то, может, и необъяснимо сложной…
– В каком смысле? – удивленно уставился на нее Илья.
– А до тебя еще трое внебрачных деток объявилось, представляешь? Два брата и сестренка.
– Да?!
– Так я ж и говорю – такой вот он, папаша твой…
Она снова замолчала, будто вмиг провалившись в те давние времена, снова увидела, как на картинке, и себя, маленькую неказистую фельдшерицу, и Петрова своего, и Танечку Гришковец-раскрасавицу. В самом деле, уж как Петрову было в нее не влюбиться: высокая, статная, в себе уверенная, вся из себя гордо-праздничная такая женщина, вот только глаза иногда очень уж серьезно-печальными бывали. Она еще и землячкой Петрова оказалась, как на грех. А ее, Анну, тогда совсем токсикоз замучил – второй, Сашка, не просто ей дался. Ходила страшная, злющая. И так-то никогда в красавицах не числилась, даже по молодости, а тут вообще расквасилась – без слез и не взглянешь. Вот и шуганула она Танечку с удовольствием – всю свою бабскую обиду на ней одной выместила. Да ее никто и не осудил тогда – все и так понятно было: жена беременная, а тут вдруг у мужа – очередная любовь. Теперь вот – нате вам…
– Что же. Как говорится, пришло время собирать очередные камни… – тихо вздохнула женщина, будто возвращаясь из прошлого и с грустной улыбкой глядя на Илью.
– Да ладно вам, Анна Сергеевна. Какие камни! Я посмотрел на него, и хватит. И уеду сегодня же. У меня поезд через два часа.
– А ты и правда на него зла не держи, мальчик! – будто не слыша, продолжала говорить она, снова вцепившись в рукав его куртки. – Он хоть и бабник, и крови моей попил достаточно, а мужик все равно достойный. Честный, порядочный, безотказный. Самый лучший хирург в городе! Такому все простить можно, так ведь?
– Да, Анна Сергеевна. Наверное.
Она снова резко развернула его к себе, снова с напряженным вниманием долго вглядывалась в его лицо. Наконец, грустно улыбнувшись, тихо и ласково проговорила:
– А ты очень на него похож, Илья. И на Сашку моего похож, на среднего сына…Да и Вовкино что-то есть… Петровская порода, в общем, ни убавить, ни прибавить. И походка у тебя, знаешь, такая же, и глаза, и голос…
– Спасибо, – расплылся вдруг в благодарной улыбке Илья. – Спасибо вам, Анна Сергеевна.
– Слушай, а пошли к нам! Надо ж тебе с братьями познакомиться! – совершенно неожиданно и для самой себя вдруг предложила она.
– Да нет, спасибо, у меня правда поезд через два часа, а еще до вокзала надо добраться! – торопливо отказался Илья. К тому же в кармане куртки уж совершенно некстати заверещал мобильник – наверняка мать звонит, как чувствует чего… Илья достал телефон, посмотрев в окошечко, нехотя нажал кнопку соединения и, отвернувшись в сторону от Анны Сергеевны, тихо, будто перед ней извиняясь, начал бормотать в трубку: – Да, мам, слушаю…Из института еду… Да, скоро буду дома, все в порядке у нас. Голос? А что голос? Нет, правда все хорошо, не волнуйся. Давление бабке меряю, конечно… Да… Ой, да все нормально, чего ты…Ну давай, все, пока…У меня батарея садится…
– А мама долго еще в Москве будет?
– Дня три еще, а что?
– Так оставайся! Все равно уж обманул мать! Семь бед – один ответ! – тихо продолжая удивляться благородному своему порыву, продолжала уговаривать его Анна Сергеевна.
– Да нет, я и правда не могу, – развел руки в стороны Илья. – Бабка же там одна. Она ведь старенькая уже, да и на костылях еще. И так только через трое суток дома буду! Можно было б на самолете, да дорого…
– А если б ты отца не нашел? А если бы он на операции был? Так бы и уехал?
– Так ведь нашел же!
– Ну, хоть на сутки останься! Он же потом изведется весь! Я ж его знаю…
– Нет, Анна Сергеевна, не могу. Правда, не могу. Спасибо вам.
– Ну ладно, ну что ж… Тогда я тебя до поезда провожу! Расскажи мне о маме…
– Нет, лучше вы мне еще про отца расскажите!
2
Задумавшись, Илья не заметил, как умял целых пять больших пирогов с капустой да два сваренных вкрутую яйца. От еды и правда полегчало, будто досада, в нем больной занозой засевшая, тоже урвала себе свой кусочек, согрелась да и свернулась в трубочку – спать залегла. Да и поезд показался не таким уж и неприютным – поезд как поезд, подумаешь. Он даже улыбнулся сам себе тихонько для бодрости, и тут же решил, что в панику от произошедшего с ним такого важного жизненного события впадать больше не станет, а совсем даже наоборот, постарается разложить все по полочкам: хорошее – к хорошему, плохое – к плохому. А потом и из плохого, следуя бабки Нориной теории, постарается извлечь для себя только хорошее, а иначе никак, иначе и жить нельзя. Одно только обстоятельство для Ильи было неисправимо-мучительным – как же он так отца своего, доктора Петрова этого, сильно под монастырь подвел… А с другой стороны – Америки-то он не открыл для жены его. Как она, эта Анна Сергеевна, лихо про мужа-то своего – вроде как ни одной юбки не пропустил. И с его матерью у него тоже вроде как случайно все получилось, и он, выходит, в его жизни – тоже случайный фактор…
Вспомнив о матери, он снова вздохнул горестно и уставился в серые февральские сумерки за окном – не дай бог еще и она узнает про тайное это его путешествие…
Боялся Илья не зря. Вообще, он рос добрым и спокойным мальчиком, и, казалось бы, хлопот особых матери своей, Татьяне Львовне, доставлять вовсе и не должен. Однако огорчал ее постоянно, потому что с катастрофической какой-то периодичностью умудрялся попадать в самые невероятнейшие истории. Виной же всему были его до смешного, а порой и до абсурда доходящие доброта и слепое наивное простодушие; они жили в нем, казалось, по собственным законам, и никаких материнских доводов об этой невероятной их абсурдности воспринимать не желали. Мальчик он был действительно странный – «сдвинутый, от жизни отодвинутый», как дразнили его с самых ранних школьных лет. Татьяна Львовна всегда очень болезненно воспринимала странное поведение сына, раздражалась и даже, как ему иногда казалось, стыдилась его немного, хотя и всячески пыталась скрыть это свое раздражение, убеждая сына в том, что наивные и благородные Дон-Кихоты нынче числятся в обыкновенных придурковатых неудачниках, что надо просто научиться «жить, как все» – то есть не раздавать себя направо и налево всем желающим, не терять времени на глупейшее созерцание и дурные рефлексии, а строить свою жизнь ярко, красиво, стремиться к мечте, к карьере, или к материальному хотя бы благополучию, и что нельзя, в конце концов, жизнь свою прожить только под лозунгом «надо творить добро»… Илья, слушая ее, в основном молчал. Он и сам не отдавал себе отчета, что поступками своими как-то «творит» это самое добро, просто у него так само собой получалось. Может, по инерции какой, без всякой на то внутренней рассудительной подоплеки. Молчал, потому что объяснить что-либо вразумительное про себя он ей никогда не мог, не получалось у него как-то.
Когда еще в школе учился – и очень хорошо, надо сказать, учился, – тоже никак не мог ей объяснить, почему вдруг в конце года выплывала у него двойка за отчетную контрольную, порушив тем самым надежду на итоговую годовую пятерку. Почему он так опрометчиво решает эту самую контрольную по математике в первую очередь не себе, а соседу по парте, хилому троечнику Гришуне, потом – симпатичной моднице Сонечке, а на свое задание уже просто времени не остается. Мать опять раздражалась, и опять слышать не хотела о том, что у Гришки злобный и жестокий отец, который бьет его смертным боем за каждую двойку – воспитывает так, а в Сонечку математика просто категорически не лезет, хоть тресни. И не потому, что она девочка и больше о нарядах думает, а потому, что у нее мозги так устроены – отторгают они все уравнения и формулы начисто – не оставаться же ей в школе навечно из-за этого. Жалость к Гришке и Сонечке перешибала в нем всяческое честолюбие отличника – зачем ему эта пятерка за контрольную, если он разом столько чужих проблем решить может? Главное – она в голове у него есть, пятерка-то эта. А в журнале школьном пусть себе и двойка поторчит на здоровье, подумаешь… И вовсе дело не в благодарности какой, не в тихом Гришкином «Спасибо, Гришковец!» и не в Сонечкином кокетливом «Молодец, Гришковец!». А дело все было в нем, в Илье. Он чувствовал, что устроен так. И ничего с собой поделать не мог. И программу, которая была в него каким-то хитроумным способом заложена, – «программу пресловутого альтруиста», как говаривала Татьяна Львовна, – тоже изменить не мог. А кличка эта дурацкая – Молодец-Гришковец – к нему еще с детства приклеилась. Илья даже и привыкнуть к ней успел. Хотя и звучало это опять таки странновато, вроде как Иванушка-дурачок… Но не у всех. У бабки, например, с мягкой иронией, у Андрея Васильевича, Татьяны Львовны «приходящего мужа» – с одобрением, у институтских его однокашников – как привычное уже погоняло, а вот у самой Татьяны Львовны, матери его – с горечью… Она не принимала его таким. Хотела, наверное, но не получалось у нее. Илья не обижался. Он и сам порой себя не понимал, чего уж…И еще – он очень жалел ее. И любил безумно. А получается – все равно обижал. Вот такой вот парадокс…
Правда, виделись они совсем редко. Татьяна Львовна дома бывала набегами, работала на двух, а то и на трех медицински-нищих своих ставках. Деньги зарабатывала. Однако когда Илья вознамерился было после школы поступить на вечернее отделение юридического института, чтоб тоже работать пойти, закатила вдруг жуткий скандал и потребовала от сына «нормального и полноценно-стационарного» образования, и еще – чтоб непременно красный диплом был. Тут же, смеясь, шутливо и пояснила – мол, потребность у нее такая образовалась, хочется ей красный диплом сына подержать в руках, и все тут. Илья не стал с ней тогда спорить. Просто решил – он обязательно ей этот красный диплом принесет, на тарелочке с голубой каемочкой… Раз ей так надо – пусть. Может, хоть таким образом компенсирует ее раздражение по поводу странных своих поступков. И в самом деле: то он новую куртку замерзающему на улице бедолаге отдает, то холодильник опустошает начисто для соседских мальчишек, у которых родители в пятидневном запое пребывают… Не сын, а сплошной убыток. И по-другому он не мог, прям как наркоман какой. Внутри вдруг в самый критический момент будто лампочка какая загоралась, мигала тревожно и сигналы подавала, и разум блокировала полностью, – вот он и бросался очертя голову, в неведомом каком-то порыве и не помня себя навстречу чужому горю…
Илья вздохнул тяжело, помотал головой из стороны в сторону. Досада на себя, так хорошо уснувшая было всего час назад, вдруг снова зашевелилась, разворошила быстренько память, вынеся на ее выпуклую поверхность тот полный последний кошмар, который он сотворил с матерью всего четыре года назад. Он тогда еще в восьмом классе учился…
Вызвал его тогда в подъезд Колька Ларионов, сосед с первого этажа, и, трясясь от ужаса, рассказал, что его на счетчик посадили какие-то отморозки, и сумма порядочная уже набежала – не отдать ему никогда. И нет у него другого выхода – только из дома бежать куда глаза глядят, чтоб не нашли… Не родителям же рассказывать – еще хуже будет. А бежать ему и некуда совсем было. И просил-то Колька у него хоть сколько-нибудь денег – на первое время в бегах своих перебиться. Ну, лампочка эта дурацкая у него внутри и зажглась на полную мощность… Пошел да и взял у матери деньги, что она на шубу себе копила. Все взял, до копеечки. Чтоб на весь этот Колькин долг хватило. Не думал он тогда ни о матери, ни о шубе ее, вообще ни о чем таком не думал – все куда-то на задний план перед этой Колькиной бедой отступило. И даже вечером, когда сам ей во всем признавался, еще в себя так и не пришел – смотрел на нее удивленно да ресницами своими длинными моргал – чего это она…
А Татьяне Львовне в тот момент по-настоящему плохо стало. Вдруг такой ужас на нее напал от осознания того, кем же вырос, кем пошел в эту жизнь ее сыночек, что потемнело в глазах и показалось, земля ушла из-под ног. И даже мысль черная и коварная в голове неожиданно промелькнула: а нормальный ли он вообще, может, его срочно психиатру показать надо… Плюхнувшись с размаху на стул, она слушала его перепуганный лепет и изо всех сил пыталась понять, что ж это такое происходит с ее сыном, и что такого срочного ей надо с ним предпринять…
– Понимаешь, я не мог, мама, – выставив перед собой ладони и преданно глядя ей в глаза, пытался робко обосновать свой поступок Илья. Увидев такую ее реакцию на это свое признание, он и сам уже будто испугался содеянного, и трясся весь внутри, как осиновый листочек. – Мам, ну прости… Все равно ж надо было как-то спасать Кольку-то… А она, мам, судьба-то его, прямо в мои глаза как взглянула, так и не смог я. Ни одна ведь шуба не стоит судьбы человеческой, правда? Правда же, мам? – в отчаянии зажав лицо руками, твердил Илья, и взглядывал на нее просительно, и снова трясся…
Татьяна Львовна долго ничего ответить ему не могла. Сидела, выпрямив спину, смотрела мимо куда-то в кухонное пространство. А потом будто опомнилась вдруг, кричать начала:
– Немедленно… Ты слышишь, немедленно иди и верни мне мои деньги! Это я их заработала, понимаешь? Я! И мне плевать на всех твоих Колек и на их проблемы, вместе взятые! Я твоя мать, я! И ты меня любить должен, понимаешь?! И никого больше! А я – тебя! И все! И все!
А потом размахнулась и с силой ударила Илью по щеке. Тяжелой рукой ударила, от души, от отчаяния своего злобного да с годами уже поднакопившегося. Может, и по другой бы так же ударила, да в комнату мать ее с теткой вошли, Вирочка с Норочкой, молча положили на стол аккуратненький такой пакетик, в старую газетку завернутый.
– Вот, Таня, возьми, мы тут на старость кое-чего отложили. Это тебе на шубу. Не бей его, пожалуйста!
Татьяна Львовна тогда как развернула газетку, да как увидела стопочку тысячных бумажек, любовно разглаженных, одна к одной сложенных, – так и зарыдала в голос. Кое-как они ее и успокоили, наперебой оглаживая по трясущимся крупной лихорадочной дрожью плечам да приговаривая ласково-успокаивающе:
– Танечка, мальчик же не на водку и наркотики деньги взял, он человеку помочь хотел…
– Танечка, мы сейчас поговорим с ним, а ты успокойся, иди отдыхать! А завтра себе шубу новую купишь! А нам деньги зачем? Нам и пенсии хватает. А заболеем – так ты нас сама же и вылечишь!
Потом, уже в своей комнате, и состоялся у Ильи с Вирочкой да Норочкой тот памятный разговор, который действительно посеял в душе у него большие сомнения и который заставил его враз засомневаться в такой уж необходимости этих ярчайших своих душевных порывов.
Нет, они совсем его не ругали и не стыдили. Они вообще этого никогда не делали. Просто умели убеждать так, что ему и самому за свой поступок несколько неуютно становилось. Умели они разобрать всю ситуацию по косточкам, по зернышку-ядрышку, умели увидеть в самом, казалось бы, благородном порыве человеческом его неприятно-мутную, оборотную сторону правильной золотой медали. Вот и в этом случае выходило, по их разумению, что этот порыв его не что иное и есть, как эта самая пресловутая оборотная сторона, и нет ни у кого права выпрыгивать на чужую жизненную дорогу, что иногда в порыве сделанное добро на деле есть для другого самое настоящее зло, потому как лишает его сладкого счастья собственного, жизненно необходимого преодоления. Тем более, когда добро это творится за чужой счет – материнских, к примеру, слез по поводу не купленной на зиму шубы… И сколько он с ними ни спорил отчаянным своим фальцетом из-за приключившейся не к месту юношеской ломки голоса, сколько ни доказывал свою истину, выходило все равно так, что кругом они правы оказывались: и в том, что нельзя опрометчиво подставлять искреннее свое простодушие под людскую хитрость, которую он этим самым простодушием только искушает вовсю, и в том, что учиться надо как-то распознавать эту самую хитрость, и в том, что иногда наступает крайняя такая необходимость – надо себя самого для самого себя же и сберечь бережно, а не лезть напролом в чужую проблему, как вот в Колькину, например. И все это у них так ловко да незаметно выходило, все в спорах да в разговорах, да с любовью искренней, без всякого там стыда, недовольства да гневного раздражения…
Они вообще любили с ним поспорить, бабки его, Вирочка с Норочкой. А особенно Норочка ярой спорщицей была. Еще и смеялась потом всегда – если, мол, не поумнеешь, так хоть говорить хорошо да правильно научишься, что в адвокатской твоей карьере будущей и не помешает совсем…
А насчет Кольки он погорячился, конечно. Зря битый час им правоту свою доказывал – это уж позже выяснилось, что Колька вообще никуда сбегать вовсе и не собирался, обманул его просто. А деньги, от Ильи полученные, в автоматах игровых спустил. Правы, правы оказались драгоценные его Вирочка с Норочкой. И подружки, и няньки, и воспитательницы. Умные, интеллигентные, все понимающие – золото, а не бабки. И такая от них любовь плотной волной всегда исходила – руками потрогать можно, если захочется. Вот он в этой плотной любви и вырос, по выражению Татьяны Львовны, «будто овощ в жарком парнике». А еще Татьяна Львовна искренне полагала, что именно они – Вирочка с Норочкой – ее сына и испортили, залюбили вконец и от жизни реальной отодвинули – совсем уж белой вороной сделали, и нет будто в жизни людей несчастнее, чем эти самые, которые белые вороны и есть…Илья, конечно же, поутих тогда надолго после этого случая. Мать огорчить боялся. Помалкивал да книжки читал запоем, полностью почти в себя ушел, чтоб ни видеть, ни слышать…И пришла ему вдруг однажды, как открытие, в голову мысль: если человек так артистически-мерзко лжет, используя эту его мгновенно самовозгорающуся внутри лампочку, то, выходит, этому человеку совсем, совсем уж плохо. Выходит, он несчастнее вдвойне, втройне самого что ни на есть распоследнего бедолаги, судьбой обиженного, и жалеть его, выходит, надо не просто так, а больше даже – вдвойне, втройне больше. Вот тогда и почувствовал он в себе еще одну странную способность, о которой долго никому не мог рассказать, даже бабкам…
А год назад Вирочка умерла. Илья пришел из института – нет ее, в морг увезли. Инфаркт. И осталась бабка Нора одна. Он на занятиях целый день, Татьяна Львовна на работе – некому ей даже и костыли подать. Хотя Норочка и не жаловалась никогда, но Илья видел, как ей трудно. Мало того – она еще и еду норовит приготовить для всех, и утром все пытается раньше встать да завтраком его накормить. Еще будильник не прозвенит, а она уже костылями в кухне стучит, тарелками гремит…
Татьяна Львовна, когда мать похоронила, сразу к тетке переселилась, сыну комнату освободила. «Ты уже большой», – объяснила она ему свой поступок, – «У тебя своя, собственная территория должна быть». Илья, как мог, сопротивлялся – вовсе не нужна была ему никакая такая территория. Но мать, как всегда, на своем настояла, и пришлось ему это обстоятельство все-таки принять, как удар по сыновней его совести. Потому что территория эта ей и самой крайне была необходима для устройства собственной личной жизни, которая, какая-никакая, а все же иногда имела место быть: Татьяна Львовна вот уже пять лет подряд встречалась с очень хорошим, по ее разумению, мужчиной – драгоценным своим Андреем Васильевичем, и связью этой очень дорожила, и покорно и трепетно ждала со дня на день предложения руки и сердца от женатого своего друга. Илье же и Норочке она давно про Андрея Васильевича все объяснила, и даже поделилась некоторыми подробностями – что у них не все так просто, что у него в той семье дочка, и что он, как человек глубоко порядочный, не может вот так сразу, с бухты-барахты взять ее да и бросить. А Илья к Андрею Васильевичу давно уже попривык. И за нерешительность такую даже уважал – дочка все-таки. И вообще, считал хорошим мужиком, правильным. Тем более он, как и его родной отец, доктор Петров, тоже хирург…
Он вдруг улыбнулся, вслушавшись в это невероятное созвучие – доктор Петров… Красиво-то как, господи. Как музыка…А если еще взять и отбросить эту противную досаду, приказать ей замолчать категорически раз и навсегда, то и совсем хорошо звучит. В тот же миг, вместе с услышанной этой музыкой, пришло к нему и радостное осознание правильности своего поступка – как же хорошо все-таки, что он его нашел, и что съездил к нему – тоже хорошо. Зато теперь знает: он – есть. Он, его отец, живет на свете доктором Петровым из Краснодара, обаятельнейшим мужиком с пронзительно-горячими, очень умными и грустными глазами. И жена у него хорошая тетка. Когда поезд тронулся, она еще бежала за вагоном, кричала: «Ты телефон не оставил! Позвони мне сам в больницу! Обязательно позвони!» Потом стояла, долго еще вслед рукой махала…
За окном поезда совсем стемнело, вагон мерно и плавно покачивало на быстром ходу. От выпитого горячего чая Илью разморило, глаза начали слипаться сами собой. В очередной раз он позвонил бабке Норе, пожелал ей спокойной ночи и заснул крепким здоровым сном двадцатилетнего юноши – обладателя непонятных, самовозгорающихся от чужого горя лампочек, большого, доброго сердца да успокоенной ощущением выполненного сыновнего долга души – кому-то кажущейся до смешного простой, а кому-то, может, и необъяснимо сложной…