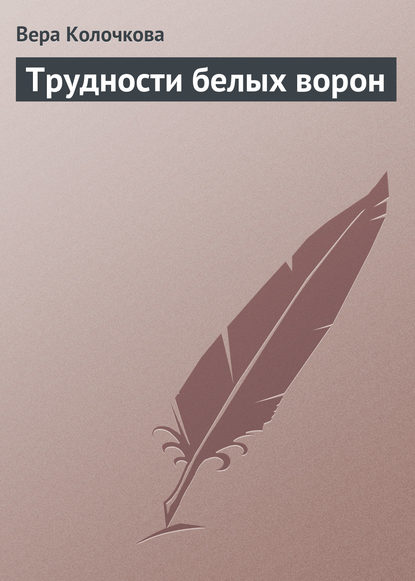По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трудности белых ворон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да что, что тебе понятно-то? – вдруг взорвался праведным своим гневом Вовка. – Они что теперь, толпами будут к нему ездить, дети его внебрачные? А мать так этому и дальше радоваться должна? Бред какой-то…
– Петров, ты чего это? – медленно повернула к нему голову Кэт. – Ты что, не понимаешь? Это ж счастье – столько братьев иметь! Да еще и сестру впридачу! Они что, чужие тебе? Или плохие? Злые? Недостойные? Чего молчишь?
– Да нет…Все ребята классные, конечно…
Вовка задумался глубоко, прислушался к себе, почувствовав странную какую-то легкость: утреннее его раздражение отчего-то вдруг испарилось, оставив после себя лишь едва ощутимое неудобство, похожее на угрызение совести, как легкое послевкусие от горького, но необходимого организму лекарства. Вспомнилось ему вдруг, как все они – и отец, и мать, и ребята – радуются всегда приезду Лени из Саратова, и мать печет сладкие пироги по этому поводу, и отец ходит, сияя глазами и улыбаясь, как именинник… Или вот когда Пашка к ним в гости приходит со своей скрипочкой, и они все дружно усаживаются на старенький диванчик, и слушают его талантливую, бьющую куда-то прямо в солнечное сплетение музыку… А уж про Ульяну и говорить нечего. Ульяна, его немецкая сестренка, так же, как и братцы, неожиданно появившаяся в его жизни, поразила его просто в самое сердце. Девчонке двадцать семь лет всего, а уже состоялась как фотограф-художник, и даже галерея у нее своя есть в родном ее Дрездене – с ума можно сойти… Она тогда все побережье объехала, нашла хороший дом в станице Голубицкой прямо у моря да и купила его на имя отца. Выложила на стол перед ним документы и говорит: «Это тебе, в память о маме моей. Она всю жизнь тебя с радостью любила да вспоминала самым светлым словом. Рассказывала – спас ты ее однажды…» Вовка потом долго еще приставал к отцу – все спрашивал, как он ее спасал-то. А отец отмолчался…
– А может, и правда, зря я так психую? – медленно произнес Вовка, поворачивая к Кэт голову. – Они в самом деле все классные. И все, как один, в чем-то талантливые… Мать так всегда и смеется – говорит, у моего мужа только талантливые дети получаются…
– И ты, Петров, тоже талантливый, что ль? – ехидно спросила Кэт. – Чего-то я этого за тобой особо не наблюдаю, знаешь… В нашем педагогическом из мужиков вроде одни только охломоны учатся да лузеры потенциальные, которых в приличные институты не взяли. Да еще и на историческом! Не мужицкое это дело вовсе…
– Почему это не мужицкое? – удивленно посмотрел на нее Вовка. – Как раз и мужицкое…
Вовке вдруг расхотелось спорить с девчонкой на эту тему. Он с отцом в свое время наспорился. Да и неловко стало, будто он должен ей как-то свою талантливость доказывать… И чего ее доказывать – может, и нет ее вовсе, никакой талантливости. А то, что ему захотелось в свое время Артемке помочь, к школе его подготовить, так он все-таки брат ему, а не кто-нибудь…
Артемку Петров привел в свой дом уже шестилетним мальчишкой, запуганным и неразвитым. Так вот взял вечером и привел прямо с похорон Артемкиной матери, посадил перед Анной и сказал: «Это мой сын, Аня. Он будет жить с нами». И все. Артемка потом несколько дней сидел – звереныш зверенышем, испуганно втянув голову в плечи, не разговаривал ни с кем, и только к Петрову, когда тот с работы поздно вечером приходил, кидался со всех ног, как к спасителю, вцеплялся по-обезьяньи в шею – не оторвать…Вот тогда вдруг в Вовке и затрепыхался, заворошился непонятный какой-то педагогический зуд, и захотелось непременно этому новоиспеченному братцу помочь – совсем уж он запущенный был, дикий, и совсем для шестилетнего пацана неразвитый – маленький такой деградант, в общем. И начал его Вовка вытягивать потихоньку-помаленьку, всю душу в это дело вкладывал. А потом, намного позже, понял вдруг, что как раз на этом самом месте душа его и расположилась, и что все это ему ужасно интересно – современным, так сказать, «Макаренко-Ушинским заделаться», как Сашка его обозвал, подсмеиваясь беззлобно. А потом он и с Петровым долго спорил на эту тему – тот его все предостерегал – мол, для этого дела надо уметь всех детей подряд любить. Что ж, прав, конечно. Вовка тогда дал и отцу, и себе слово – он обязательно научится их любить. Всех. Хотя, как отец ему ответил, любви не учатся, она в человеке или есть, или нет ее вообще…
– Кэт, а ты любить умеешь? – неожиданно для себя спросил Вовка, резко повернув голову к девушке.
– Умею. – Ни капли не смутившись, ответила серьезно Кэт и, помолчав, продолжила: – В любом жизненном обстоятельстве любовь все определяет, Вовка. Иногда чувства человеческие большей ценностью обладают, чем все досужие философские рассуждения, вместе взятые…
Вовка задумчиво уставился на нее, рассеянно улыбнулся в ответ, кивнул согласно головой. Ему все больше нравилась эта девчонка. И дело было вовсе не в этой ее необычности – просто нравилась, и все. Было в ней что-то особенное – теплое, рыжее и отчаянно-умненькое. И говорит она хорошо – по-женски ласково как-то, снисходительно и в то же время не обидно совсем… Сам смутившись от своего пристального взгляда, он торопливо соскочил со скамейки, проворчал быстро:
– Пошли давай на учебу, рыжая болтунья. Лентяйка, все бы только философствовала она. Да и скамейка, смотри, холодная, задницу простудишь. Тебе ж еще детей рожать…
– Пошли, – Кэт нехотя поднялась со скамейки, взглянула на него искоса, – а ты ничего, Петров… Занятный…
На лекциях он все время смотрел в ее сторону. И не хотел вовсе, а смотрел. И она вдруг оглянулась – почувствовала. Улыбнулась ему всем своим искрящимся веснушками лицом – и глазами, и губами, и даже уши ее чуть двинулись вверх. Здорово как… Как другу ему улыбнулась. А может, и больше, чем другу – была у них на двоих общая тайна. Уж в чем она заключалась – бог его знает, но была. Он это увидел сейчас…
4
Илья проснулся от лязга резким рывком открывшейся двери, уставился испуганно на ввалившегося в купе высокого красивого парня в распахнутой дубленке. «Люся, это здесь! Иди сюда! Вот тебе и попутчик на дорогу!» – громко произнес парень, глядя насмешливо своими яркими голливудскими глазами на растерянного, моргающего спросонья Илью. – «Ты, парень, девушку не обижай, ладно? Она хорошая…», – обращаясь скорее к вошедшей девушке, весело продолжил он. – «Ну, все, Люсь, пока. Там, говорят, стоянку сократили…» Парень неловко клюнул девушку в щеку, сделал от двери ручкой и быстро пошел к выходу из вагона.
Поезд и в самом деле вскоре тронулся с места, за окном замелькали огни какого-то большого города. Девушка сидела, не двигаясь, не снимая куртки, молча уставившись в окно.
– Это какой город? – спросил Илья, пытаясь завести разговор.
– Уфа… – тихо ответила девушка, не отрывая немигающего взгляда от окна.
– А давайте я вам помогу сумку на верхнюю полку закинуть. Вы до какой станции едете? Может, мне выйти? Вам, наверное, переодеться надо… – неуверенно пытался расшевелить ее Илья.
– Я еду до Екатеринбурга. Сумку закидывать не надо. Выходить тоже не надо. Вы спали – и спите дальше, – злобно произнесла девушка, повернув, наконец, голову от окна и глядя прямо ему в лицо. На маленьком ее, ничем не приметном широкоскулом смуглом личике с прямым носиком и поджатыми в скорбно-горестную скобочку губами выделялись своей выразительностью лишь огромные карие глаза – отчаянно-несчастные, кричащие своим горем через толстую пелену из непролитых слез, уже сильно просящихся наружу, держащихся на одном только злобном ее голосе да напряженной позе. В ту же секунду Илья вдруг почувствовал, как током прошло по нему чужое горе, как приняло в себя сердце тягостный его импульс – он обязательно, обязательно должен помочь этой девушке…
– Люся, вам, наверное, поплакать сейчас надо. Вас ведь Люсей зовут, да? Так вы и плачьте, и не обращайте на меня ни малейшего внимания, пожалуйста! Если стесняетесь – я сейчас выйду… У вас случилось что-то?
– Да вам какое дело! Отстаньте от меня! – почти прокричала девушка, задохнувшись, давая путь наконец-то прорвавшимся слезам.
«Ну вот, уже хорошо…», – подумал Илья, протягивая ей бумажные салфетки. Она с силой оттолкнула его руку и, сбросив ботинки, поджала под себя ноги, спрятав в коленки искаженное плачем лицо. Рыдания сотрясали все ее худенькое тело, плечи ходили ходуном, узкие ступни в тонких голубых носочках некрасивым и косолапым утюжком уперлись в вагонную полку.
– Ну, вот и хорошо, – вслух произнес Илья. – Я сейчас вам чаю принесу…
Он тихо вышел из купе, встал у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, как будто пытаясь разглядеть что-то в сплошном мелькании быстро меняющихся ночных пейзажей. Полная луна на небе равнодушно взирала на стремительно мчащийся зимний поезд сообщением Краснодар-Екатеринбург, на него, взволнованного чужим горем белобрысого парня, уставившегося грустными мягкими глазами в темноту проносящихся мимо сонных лесов и полей, на его попутчицу – горько плачущую в купе девочку в голубых носочках. «Ну вот, опять…» – обреченно подумалось ему вдруг, – «Опять сейчас чужие проблемы решать буду, глупостей всяческих наделаю. И ведь совершенно определенно наделаю, знаю уже…»
Через полчаса, боясь расплескать теплый чай из стакана, деликатно позванивающего в классически-старом затертом подстаканнике, он, набравшись смелости и решительно дернув за ручку двери, вошел в купе.
– А я тебе чай принес! Только он не очень горячий уже, там титан остыл… – бодрым голосом произнес Илья, поставив на стол стакан и искоса посматривая на Люсю, тихо сидящую в прежней своей позе, упершись лбом в поджатые колени. – Ты пирожок с капустой будешь? Вкусно, я ел…
– Я не знаю… Я со вчерашнего дня ничего не ела, – подняла Люся на него опухшие от слез глаза.
– Тогда вот! И пирожок, и яйца вареные, и колбаса…
– Спасибо…
– А ты куртку сними, неудобно же! Ничего, что я на ты?
– Да ради бога. Чего мне с тобой, детей крестить?
Люся поболтала ложечкой в стакане, размешивая сахар, протяжно, на вдохе, всхлипнула, сделала осторожный глоток.
– Поешь, – не унимался Илья, – сразу легче будет! По себе знаю. Когда нервничаю – съедаю все, что не приколочено!
– А я, наоборот, вообще на еду смотреть не могу. Как будто желудок в твердый комок сжимается и ничего, ничего не чувствую…
– А что у тебя случилось-то? Горе какое?
– Да какое тебе дело?
– Раз спрашиваю, значит, есть дело! Давай рассказывай!
– Отстань, парень…
– Меня Ильей зовут.
– Да пусть хоть как тебя зовут – отстань, а?
Люся опять уставилась в окно, забыв про чай и не притронувшись к еде, заботливо разложенной перед ней Ильей.
– Люсь, а ты знаешь, что такое психоанализ по-русски?
– Нет. А что это?
– Это разговор двух попутчиков в поезде. Особенно ночью. Выговариваются часами, взахлеб, все тайные горести друг другу изливают – все равно ведь никто не узнает! Вышли люди из поезда – и разошлись в разные стороны. И денег за сеанс платить не надо…
– Да, действительно, – засмеялась, наконец, Люся, – и правда, халявный сеанс психоанализа! Где ж еще бесплатно чужой человек тебя всю ночь выслушивать будет?
– Ну, так а я о чем? Тут, главное, зевать нельзя: кто быстрее своего попутчика в благодарного слушателя успеет превратить, тот и в выигрыше…Так что давай, рассказывай! Я тебе фору даю.
– Да чего рассказывать-то? Ничего интересного. Банальная, наверное, на посторонний взгляд история…
– Петров, ты чего это? – медленно повернула к нему голову Кэт. – Ты что, не понимаешь? Это ж счастье – столько братьев иметь! Да еще и сестру впридачу! Они что, чужие тебе? Или плохие? Злые? Недостойные? Чего молчишь?
– Да нет…Все ребята классные, конечно…
Вовка задумался глубоко, прислушался к себе, почувствовав странную какую-то легкость: утреннее его раздражение отчего-то вдруг испарилось, оставив после себя лишь едва ощутимое неудобство, похожее на угрызение совести, как легкое послевкусие от горького, но необходимого организму лекарства. Вспомнилось ему вдруг, как все они – и отец, и мать, и ребята – радуются всегда приезду Лени из Саратова, и мать печет сладкие пироги по этому поводу, и отец ходит, сияя глазами и улыбаясь, как именинник… Или вот когда Пашка к ним в гости приходит со своей скрипочкой, и они все дружно усаживаются на старенький диванчик, и слушают его талантливую, бьющую куда-то прямо в солнечное сплетение музыку… А уж про Ульяну и говорить нечего. Ульяна, его немецкая сестренка, так же, как и братцы, неожиданно появившаяся в его жизни, поразила его просто в самое сердце. Девчонке двадцать семь лет всего, а уже состоялась как фотограф-художник, и даже галерея у нее своя есть в родном ее Дрездене – с ума можно сойти… Она тогда все побережье объехала, нашла хороший дом в станице Голубицкой прямо у моря да и купила его на имя отца. Выложила на стол перед ним документы и говорит: «Это тебе, в память о маме моей. Она всю жизнь тебя с радостью любила да вспоминала самым светлым словом. Рассказывала – спас ты ее однажды…» Вовка потом долго еще приставал к отцу – все спрашивал, как он ее спасал-то. А отец отмолчался…
– А может, и правда, зря я так психую? – медленно произнес Вовка, поворачивая к Кэт голову. – Они в самом деле все классные. И все, как один, в чем-то талантливые… Мать так всегда и смеется – говорит, у моего мужа только талантливые дети получаются…
– И ты, Петров, тоже талантливый, что ль? – ехидно спросила Кэт. – Чего-то я этого за тобой особо не наблюдаю, знаешь… В нашем педагогическом из мужиков вроде одни только охломоны учатся да лузеры потенциальные, которых в приличные институты не взяли. Да еще и на историческом! Не мужицкое это дело вовсе…
– Почему это не мужицкое? – удивленно посмотрел на нее Вовка. – Как раз и мужицкое…
Вовке вдруг расхотелось спорить с девчонкой на эту тему. Он с отцом в свое время наспорился. Да и неловко стало, будто он должен ей как-то свою талантливость доказывать… И чего ее доказывать – может, и нет ее вовсе, никакой талантливости. А то, что ему захотелось в свое время Артемке помочь, к школе его подготовить, так он все-таки брат ему, а не кто-нибудь…
Артемку Петров привел в свой дом уже шестилетним мальчишкой, запуганным и неразвитым. Так вот взял вечером и привел прямо с похорон Артемкиной матери, посадил перед Анной и сказал: «Это мой сын, Аня. Он будет жить с нами». И все. Артемка потом несколько дней сидел – звереныш зверенышем, испуганно втянув голову в плечи, не разговаривал ни с кем, и только к Петрову, когда тот с работы поздно вечером приходил, кидался со всех ног, как к спасителю, вцеплялся по-обезьяньи в шею – не оторвать…Вот тогда вдруг в Вовке и затрепыхался, заворошился непонятный какой-то педагогический зуд, и захотелось непременно этому новоиспеченному братцу помочь – совсем уж он запущенный был, дикий, и совсем для шестилетнего пацана неразвитый – маленький такой деградант, в общем. И начал его Вовка вытягивать потихоньку-помаленьку, всю душу в это дело вкладывал. А потом, намного позже, понял вдруг, что как раз на этом самом месте душа его и расположилась, и что все это ему ужасно интересно – современным, так сказать, «Макаренко-Ушинским заделаться», как Сашка его обозвал, подсмеиваясь беззлобно. А потом он и с Петровым долго спорил на эту тему – тот его все предостерегал – мол, для этого дела надо уметь всех детей подряд любить. Что ж, прав, конечно. Вовка тогда дал и отцу, и себе слово – он обязательно научится их любить. Всех. Хотя, как отец ему ответил, любви не учатся, она в человеке или есть, или нет ее вообще…
– Кэт, а ты любить умеешь? – неожиданно для себя спросил Вовка, резко повернув голову к девушке.
– Умею. – Ни капли не смутившись, ответила серьезно Кэт и, помолчав, продолжила: – В любом жизненном обстоятельстве любовь все определяет, Вовка. Иногда чувства человеческие большей ценностью обладают, чем все досужие философские рассуждения, вместе взятые…
Вовка задумчиво уставился на нее, рассеянно улыбнулся в ответ, кивнул согласно головой. Ему все больше нравилась эта девчонка. И дело было вовсе не в этой ее необычности – просто нравилась, и все. Было в ней что-то особенное – теплое, рыжее и отчаянно-умненькое. И говорит она хорошо – по-женски ласково как-то, снисходительно и в то же время не обидно совсем… Сам смутившись от своего пристального взгляда, он торопливо соскочил со скамейки, проворчал быстро:
– Пошли давай на учебу, рыжая болтунья. Лентяйка, все бы только философствовала она. Да и скамейка, смотри, холодная, задницу простудишь. Тебе ж еще детей рожать…
– Пошли, – Кэт нехотя поднялась со скамейки, взглянула на него искоса, – а ты ничего, Петров… Занятный…
На лекциях он все время смотрел в ее сторону. И не хотел вовсе, а смотрел. И она вдруг оглянулась – почувствовала. Улыбнулась ему всем своим искрящимся веснушками лицом – и глазами, и губами, и даже уши ее чуть двинулись вверх. Здорово как… Как другу ему улыбнулась. А может, и больше, чем другу – была у них на двоих общая тайна. Уж в чем она заключалась – бог его знает, но была. Он это увидел сейчас…
4
Илья проснулся от лязга резким рывком открывшейся двери, уставился испуганно на ввалившегося в купе высокого красивого парня в распахнутой дубленке. «Люся, это здесь! Иди сюда! Вот тебе и попутчик на дорогу!» – громко произнес парень, глядя насмешливо своими яркими голливудскими глазами на растерянного, моргающего спросонья Илью. – «Ты, парень, девушку не обижай, ладно? Она хорошая…», – обращаясь скорее к вошедшей девушке, весело продолжил он. – «Ну, все, Люсь, пока. Там, говорят, стоянку сократили…» Парень неловко клюнул девушку в щеку, сделал от двери ручкой и быстро пошел к выходу из вагона.
Поезд и в самом деле вскоре тронулся с места, за окном замелькали огни какого-то большого города. Девушка сидела, не двигаясь, не снимая куртки, молча уставившись в окно.
– Это какой город? – спросил Илья, пытаясь завести разговор.
– Уфа… – тихо ответила девушка, не отрывая немигающего взгляда от окна.
– А давайте я вам помогу сумку на верхнюю полку закинуть. Вы до какой станции едете? Может, мне выйти? Вам, наверное, переодеться надо… – неуверенно пытался расшевелить ее Илья.
– Я еду до Екатеринбурга. Сумку закидывать не надо. Выходить тоже не надо. Вы спали – и спите дальше, – злобно произнесла девушка, повернув, наконец, голову от окна и глядя прямо ему в лицо. На маленьком ее, ничем не приметном широкоскулом смуглом личике с прямым носиком и поджатыми в скорбно-горестную скобочку губами выделялись своей выразительностью лишь огромные карие глаза – отчаянно-несчастные, кричащие своим горем через толстую пелену из непролитых слез, уже сильно просящихся наружу, держащихся на одном только злобном ее голосе да напряженной позе. В ту же секунду Илья вдруг почувствовал, как током прошло по нему чужое горе, как приняло в себя сердце тягостный его импульс – он обязательно, обязательно должен помочь этой девушке…
– Люся, вам, наверное, поплакать сейчас надо. Вас ведь Люсей зовут, да? Так вы и плачьте, и не обращайте на меня ни малейшего внимания, пожалуйста! Если стесняетесь – я сейчас выйду… У вас случилось что-то?
– Да вам какое дело! Отстаньте от меня! – почти прокричала девушка, задохнувшись, давая путь наконец-то прорвавшимся слезам.
«Ну вот, уже хорошо…», – подумал Илья, протягивая ей бумажные салфетки. Она с силой оттолкнула его руку и, сбросив ботинки, поджала под себя ноги, спрятав в коленки искаженное плачем лицо. Рыдания сотрясали все ее худенькое тело, плечи ходили ходуном, узкие ступни в тонких голубых носочках некрасивым и косолапым утюжком уперлись в вагонную полку.
– Ну, вот и хорошо, – вслух произнес Илья. – Я сейчас вам чаю принесу…
Он тихо вышел из купе, встал у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, как будто пытаясь разглядеть что-то в сплошном мелькании быстро меняющихся ночных пейзажей. Полная луна на небе равнодушно взирала на стремительно мчащийся зимний поезд сообщением Краснодар-Екатеринбург, на него, взволнованного чужим горем белобрысого парня, уставившегося грустными мягкими глазами в темноту проносящихся мимо сонных лесов и полей, на его попутчицу – горько плачущую в купе девочку в голубых носочках. «Ну вот, опять…» – обреченно подумалось ему вдруг, – «Опять сейчас чужие проблемы решать буду, глупостей всяческих наделаю. И ведь совершенно определенно наделаю, знаю уже…»
Через полчаса, боясь расплескать теплый чай из стакана, деликатно позванивающего в классически-старом затертом подстаканнике, он, набравшись смелости и решительно дернув за ручку двери, вошел в купе.
– А я тебе чай принес! Только он не очень горячий уже, там титан остыл… – бодрым голосом произнес Илья, поставив на стол стакан и искоса посматривая на Люсю, тихо сидящую в прежней своей позе, упершись лбом в поджатые колени. – Ты пирожок с капустой будешь? Вкусно, я ел…
– Я не знаю… Я со вчерашнего дня ничего не ела, – подняла Люся на него опухшие от слез глаза.
– Тогда вот! И пирожок, и яйца вареные, и колбаса…
– Спасибо…
– А ты куртку сними, неудобно же! Ничего, что я на ты?
– Да ради бога. Чего мне с тобой, детей крестить?
Люся поболтала ложечкой в стакане, размешивая сахар, протяжно, на вдохе, всхлипнула, сделала осторожный глоток.
– Поешь, – не унимался Илья, – сразу легче будет! По себе знаю. Когда нервничаю – съедаю все, что не приколочено!
– А я, наоборот, вообще на еду смотреть не могу. Как будто желудок в твердый комок сжимается и ничего, ничего не чувствую…
– А что у тебя случилось-то? Горе какое?
– Да какое тебе дело?
– Раз спрашиваю, значит, есть дело! Давай рассказывай!
– Отстань, парень…
– Меня Ильей зовут.
– Да пусть хоть как тебя зовут – отстань, а?
Люся опять уставилась в окно, забыв про чай и не притронувшись к еде, заботливо разложенной перед ней Ильей.
– Люсь, а ты знаешь, что такое психоанализ по-русски?
– Нет. А что это?
– Это разговор двух попутчиков в поезде. Особенно ночью. Выговариваются часами, взахлеб, все тайные горести друг другу изливают – все равно ведь никто не узнает! Вышли люди из поезда – и разошлись в разные стороны. И денег за сеанс платить не надо…
– Да, действительно, – засмеялась, наконец, Люся, – и правда, халявный сеанс психоанализа! Где ж еще бесплатно чужой человек тебя всю ночь выслушивать будет?
– Ну, так а я о чем? Тут, главное, зевать нельзя: кто быстрее своего попутчика в благодарного слушателя успеет превратить, тот и в выигрыше…Так что давай, рассказывай! Я тебе фору даю.
– Да чего рассказывать-то? Ничего интересного. Банальная, наверное, на посторонний взгляд история…