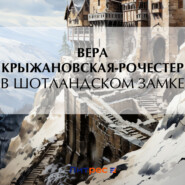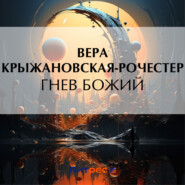По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Светочи Чехии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если бы не произведенное болезнью истощение, он мало изменился за последнее время. Тонкое, бледное лицо его, с обычным грустным выражением, похудело от работы и подвижнической жизни; большие глаза, задумчивые, пока в них не вспыхивал огонь священного негодования и религиозного восторга, по-прежнему смотрели кротко.
В тот же январский день, когда разыгралась тяжелая сцена между профессором Гюбнером и его племянницей, – в комнатке Гуса, у его постели собрались трое его приятелей. Один из них, сидевший у изголовья и, время от времени, возобновлявший компрессы, был Иероним, другой – Николай Лобковиц, верховный нотариус горного управления Чехии, а третий – Вокс Вальдштейн.
– Милый мистр Ян, – говорил Лобковиц внимательно слушавшему его Гусу, – не принимайте к сердцу суровые слова короля. Гнев его, клянусь вам, совершенно прошел, и наши дела идут не так уж плохо.
– Королева очень огорчена, что лишилась своего духовника и даже поручила мне передать от ее имени несколько кувшинов лучшего вина. Я вам пришлю их вечером, – с улыбкой подтвердил Вок.
– Поблагодари, пан граф, ее величество за неизменное, милостивое ко мне внимание и передай, что я чувствую себя лучше и скоро надеюсь, с помощью Божьей, приняться за службу при ее особе, – слабым голосом отвечал больной.
– При добром желании все пойдет хорошо, мистр Ян! А теперь выслушайте новости, которые я принес, – начал опять Лобковиц. – Я уже сказывал вам, что королевский гнев скоро утих, и знаю из верного источника, что успех и торжество, которыми нагло хвастают немцы, вызвали неудовольствие короля, также как их сопротивление его воле в деле „послушания” Григорию XII. Сверх того, наше дело нашло себе сильных и ревностных пособников в лице французского посольства, с главой которого я вчера беседовал. Приор Солон[28 - Ernest Denis, стр. 64.] сказал мне, что требование чехов совершенно справедливы, так как император Карл дал нашему университету статуты, одинаковые с парижским, а там местные уроженцы обладают тремя голосами против одного, предоставленного иностранцам.
– Конечно! И не только обычай, но и законы канонический и гражданский согласны в том, что чехи в королевстве чешском должны быть первыми, также как французы во Франции и немцы в своих землях, – оживился Гус, приподнимаясь и садясь на постель. – Что за польза была, если бы чех, не знающий немецкого языка, был приходским настоятелем или епископом в Неметчине? Поистине, от него было бы столько же проку, сколько для стада от пса немого, не умеющего лаять! Так по какому же праву немцы хозяйничают у нас? Или они рассчитывают на наше вечное молчание и подчинение? Меня обвиняют, я знаю, в ненависти к ним. Бог мне свидетель, что этого нет, и что я предпочитаю честного немца негодному чеху, будь он даже моим братом! Но чувство справедливости возмущается, когда видишь, что прирожденным сынам страны приходится подбирать крохи, падающие с того самого стола, за которым они должны были бы сидеть господами. Он остановился и бессильно опустился на подушки.
– Не волнуйся же так, – уговаривал его Иероним, пожимая его руку. – Мы знаем, что душа твоя ненавидит только порок. Немцам же, которые хвалятся тем, что они наши учителя и принесли нам свою науку, я напомню когда-нибудь слова послание к Галатам:[29 - Гл. IV. Ст. 1 и 2.]„наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного”. Значит, когда эта пора настала, все должны подчиниться ему, он – сын и наследник по закону Божественному. И этот срок назначенный наступил: Чехи перестали быть детьми неразумными. Прочь опекуны, искавшие только своей выгоды, дайте место „сынам дома сего”!
– Ты мог бы прибавить и то, что сказал Христос: „не следует брать хлеб у детей и бросать его псам”, – пылко заметил Вальдштейн. – Как ненавижу я немцев, наглых, бесчестных, которые, в своих личных целях, злоупотребляют вольностями, дарованными студентам![30 - Palacky. «G. v. B.», III, стр. 237.] Сколько их теперь приезжает в Прагу для торговли, – купцы и просто приказчики, – и все записываются в университет, только для того, чтобы воспользоваться предоставленными ему льготами, облегчающими им пребывание здесь!..
– Я думаю, что нам пора уже уходить. Нашему уважаемому мистру необходим отдых, – сказал Лобковиц, вставая и пожимая больному руку. – Будьте спокойны и надейтесь! Я не забуду указаний, которые вы мне дали, и если нам удастся получить от короля три голоса для чехов, я вас немедленно извещу об этом.
Гус горячо благодарил его, а затем гости простились и вышли, в сопровождении Иеронима, обещавшего, однако, больному вернуться к нему через час или два.
Прошло около получаса времени.
Гус был один и погружен в полудремоту, как вдруг дверь тихонько приотворилась, и на пороге показался Светомир. Но тонкий слух больного уловил шорох; он открыл глаза и спросил:
– Кто там?
– Это я, отец Ян, – Светомир Крыжанов, – ответил юноша, подходя и целуя протянутую ему руку.
– Здравствуй, дитя мое! Каким ветром занесло тебя сегодня ко мне?
– Я пришел сообщить вам важное, принятое мною решение, и пока я не буду знать, одобряете ли вы меня, ни сердце, ни совесть не дадут мне покоя.
– Говори и я тебе отвечу по моему крайнему разумению.
Светомир придвинул к постели скамейку и кратко изложил обстоятельства, побуждающие его бежать из родной страны и перейти на службу в Польшу.
– Завтра, на рассвете, мы с Жижкой покидаем Прагу, и мне ужасно было бы уезжать с мыслью, что вы, отец Ян, считаете меня отступником Господнего воинства, – нерешительно закончил он свой рассказ.
– Напрасно ты так думаешь! Наоборот, я одобряю тебя; с твоей стороны было бы преступно браться за дело, к которому у тебя нет призвания. Плохих священников у нас и так довольно, и поступает мудро тот, кто, не чувствуя в себе сил быть добрым пастырем, делается храбрым воином. Иди, сын мой, без страха по твоему новому жизненному пути и помни, что во всяком звании можно делать добро, быть честным, человечным и исполнять повеление Божии.
– Благодарю вас за доброе слово. Никто не понимает слабости людские, как вы, с божественною кротостью, как истинный служитель Божий, – прошептал растроганный Светомир, становясь на колени у постели. – Благословите меня, отец, чтобы Господь дал мне силы остаться твердым во всех испытаниях, которые готовит мне судьба.
Гус положил обе руки ему на голову и углубился в горячую молитву.
– Да благословит тебя Господь, дитя, и да направит по пути добродетели и правды, да поддержит тебя в минуты тоски и отчаяния, чтобы вера твоя никогда не колебалась и, если все покинут тебя, пусть она одна тебя подкрепит и приведет к доброй пристани.
Оба они были взволнованы. После краткой беседы, в которой Светомир изложил свои планы на будущее, он, наконец, простился и ушел.
После долгих лет запустения и безмолвия, старый замок Рабштейн снова приютил под своей кровлей молодую хозяйку. Месяцев шесть, как Ружена поселилась вновь в родовом гнезде, с подругой своей Анной и вернопреданными Ииткой и Матиасом. Жила она в полном уединении, выезжая редко из замка и никого не принимая.
Все предшествовавшее время она жила в замке Вальдштейн, за исключением двух зим, которые опекуны ее проводили в Праге.
Графиня, поглощенная своею чрезмерною набожностью и очень расчётливая, сторонилась от общества; сверх того, она нисколько не желала показывать в свет Ружену, пока та не выйдет замуж за сына, боясь, – и не без основания, – чтобы красивая и богатая наследница не нашла себе поклонника, который мог бы оказаться опасным соперником Вока. Подозрительно смотрела она даже на ребяческую привязанность Ружены к Светомиру и не успокоилась, пока не выпроводила того в Прагу готовиться к поступлению в университет.
Разлука с другом детства причинила Ружене большое горе, и ее угнетенное состояние духа усугубило недомогание, которое она чувствовала после сильной простуды на охоте, куда ее взяли, чтобы развлечь.
Несколько месяцев по отъезде Светомира, она так тяжко заболела, что даже опасались за ее жизнь.
Хотя Ружена затем и поправилась, но здоровье ее пошатнулось, и врач настоял на том, чтобы свадьба была отложена на год или два.
Ждали только возвращение Вока из Франции, куда он ездил кутить и веселиться, как вдруг графиня неожиданно получила известие о выпавшем ей наследстве и решила немедленно ехать за ним в Италию. Ружену она хотела взять с собой, но этот план был не по душе молодой девушке.
Графиня, с первой же их встречи, произвела на нее отталкивающее впечатление, а затем ни время, ни предупредительность, ни ласки не могли победить инстинктивного отвращения ее к тетке. Да и итальянская родня графини, наезжавшая иногда в Чехию, была донельзя противна Ружене, и она нисколько не жаждала пользоваться ее гостеприимством и обществом в течение нескольких месяцев. Поэтому она объявила, что желала бы, на время отсутствие тетки, пожить в своем родовом замке, которого не видела со смерти отца, чтобы молиться на его могиле и вообще провести в уединении последние месяцы своего девичества.
Опекун беспрепятственно дал свое согласие: страна в это время была относительно спокойна, замок прочно укреплен и снабжен достаточной стражей и, к тому же, находился вблизи Праги, так что граф мог наезжать туда в свободное от королевской службы время.
С радостью увидела вновь Ружена места, где протекли счастливейшие годы ее жизни, где каждый предмет напоминал ей обожаемого отца.
В светлое, но холодное январское утро, в той самой комнате, которая некогда служила рабочим кабинетом покойному барону Рабштейну, обе подруги сидели подле окна.
Анна прилежно работала над белой шелковой пеленой на престол, зашивая разноцветными шелками виноградную ветку. Это была хорошенькая, молодая девушка, свежая и цветущая; черные волосы заплетены были в две густые косы и спускались до колен.
Небольшим орлиным носом и энергичным выражением рта она напоминала несколько брата, но зато большие темные глаза, радостные и кроткие, не походили на мрачный и суровый взгляд Жижки.
Ружена ничего не делала; откинувшись на высокую спинку своего кресла, она сидела, задумчиво глядя из окна на далеко расстилавшуюся зимнюю картину.
Она оправдала ожидание и стала красивой, очаровательной девушкой, высокой и стройной, с бледно-матовым лицом и поразительно прекрасными, большими, темно-голубыми глазами с поволокой и смелым взмахом бровей.
Густые волосы сохранили с детства свой золотистый цвет и красиво выделялись на фоне ее темного синего платья.
Ее стройное, молодое тело, бледно-розовое, гладкое, как фарфор, лицо, пышные кудри и ясный, лучистый взгляд напоминали те бестелесные, одухотворенные образы, которые создавала восторженная кисть фра-Анджелико.
Рядом, на стуле, лежала, свернувшись на подушке, ее любимая собачка, и прекрасная, точно выточенная рука Ружены машинально ласкала своего любимца.
Вдруг мечтательный взор Ружены ожил и она выпрямилась.
– Два всадника едут в замок. Посмотри, Анна, кто бы это мог быть? – спросила она, пристально заглядывая в окно. Подруга отодвинула пяльцы и тоже подошла к ней.
– Они еще далеко и так закутаны в плащи, что трудно различить. Может быть, твой жених шлет тебе письмо с нарочным.
– Сомневаюсь, чтобы Вок тратил на это время, – усмехнулась Ружена. – Он теперь при дворе и, конечно, у него в голове не то. Впрочем, это меня нисколько не огорчает, и я вовсе не жажду его видеть или иметь от него известия. Мне так здесь хорошо, что я хотела бы тут остаться. А ты, Анна?..
– Мне хорошо везде, где ты, и мое искреннее желание никогда с тобой не разлучаться, – ответила та, нежно целуя подругу.
Всадники исчезли за поворотом дороги, но несколько минут спустя, призывный звук рога у ворот возвестил прибытие гостей.
Хотя и очень заинтересованные тем, кто именно приехал, Ружена с Анною выжидали доклада, и, когда маленький паж прибежал, запыхавшись, и назвал панов Яна из Троцнова и Светомира Крыжанова, обе они бросились навстречу приезжим.