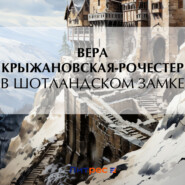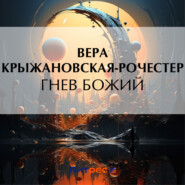По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Светочи Чехии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Милая Ружена, я не из Пльзени, а только еще еду туда и ничего не знаю о болезни твоего отца. Уповай на милосердие небесное и успокойся.
Ружена подняла на него свои чудные, полные слез глаза.
– Ты думаешь, Бог не допустит, чтобы отец умер, покинув меня одну?..
Рыдание заглушили ее слова.
– Вот она все плачет с той самой минуты, как получила печальное известие. Я просто не знаю, что и делать! Как только заслышала она звук рога у ворот, так я сейчас же должна была ее одет и вести сюда. Будто каждый может знать, что сталось с паном, – грустно заметила няня.
Тронутый горем девочки, Гус привлек ее к себе и стал утешать, говоря ей о мудрости и благости Господа и о неисповедимых путях Его, которых человек, по слепоте своей, часто не признает, но которые всегда ведут к добру, особенно того, кто с твердой верою вручает жизнь и судьбу свою создавшему его Отцу Небесному.
Глубокий, кроткий голос и то обаяние, которым веяло от молодого проповедника, благотворно подействовали на ребенка.
Расстроенное личико Ружены прояснилось; она умильно сложила рученки и доверчиво положила свою кудрявую головку на плечо утешителю. Теперь она заметила также Иеронима и дружески его приветствовала.
Обрадованный успокоительным действием своих слов, Гус убедил Ружену ложиться спать, и та послушно согласилась было уже идти, как вдруг глухой шум донесся по соседству из коридора.
Слышались беготня, крики и причитания. Наконец, дверь отворилась, и на пороге появился старый оруженосец, весь в пыли и бледный; а за ним растерянный, с заплаканным лицом, кастелян.
– Ах, преподобный мистр Ян, – дрожащим голосом сказал кастелян. – Какое горе, какое страшное горе! Обожаемый пан наш скончался!
Завидев оруженосца отца, Ружена хотела к нему броситься, но мрачный, убитый вид его напугал ее, и она застыла на месте. Услыхав про смерть отца, Ружена глухо вскрикнула, беспомощно всплеснув руками; головка ее запрокинулась, и она повалилась бы на пол, если б няня вовремя ее не подхватила.
Присутствующие кинулись к ней на помощь, но Ружена была без чувств; ее так и унесли, не приводя в сознание.
Гус, глубоко потрясенный этим трагическим случаем, велел оруженосцу Матиасу идти за ним, рассказать все подробности неожиданной кончины барона, которому возраст и крепкое здоровье сулили еще долгие годы жизни.
Матиас подробно описал все обстоятельства, сопровождавшие смерть пана, с трудом удерживая душившие его слезы.
Услыхав имя Бранкассиса, Иероним привскочил.
– Как, Бранкассис, племянник Балтазара Коссы, замешан в эту историю? О, тогда… – неодобрительный взгляд Гуса остановил его. – Я знаю епископа, но его присутствие здесь меня удивило; я считал, что он в Италии, – изменив тон, поправился Иероним.
Горькая усмешка мелькнула на устах оруженосца, но он продолжал свой рассказ и, закончив его, попросил позволения уйти.
– Что ты хотел сказать твоим неосторожным восклицанием по поводу Бранкассиса? – спросил Гус, когда они остались одни.
– Я не мог удержаться! Мне вдруг пришла в голову мысль, что внезапная болезнь барона и затем его смерть неестественны, а усердное ухаживанье епископа за больным – подозрительно! Во время поездки в Италию я узнал про Коссу, бывшего тогда архиепископом Якинским (Анконским), невероятные вещи, от которых волосы встают дыбом. Так, он был пиратом и покинул это дело, чтобы сделаться кондотьере. Не знаю, что заставило его дезертировать и облачиться в рясу, но известно, что и в ней он продолжает свое былое ремесло, т. е. грабит и развратничает. Племянник же этого разбойника, говорят, – правая рука своего дядюшки и, разумеется, он не стал бы утруждать себя, разъезжая по чешским дворянам, если бы здесь не было для него выгодной добычи. Что Вальдштейн назначен опекуном, тем более странно; ибо всем известно, что он и покойный барон были политическими врагами. Рабштейн, ты сам знаешь, был горячим сторонником „союза панского” и пособлял Розенбергу захватить короля в Бероуне, тогда как Гинек Вальдштейн – влиятельный член придворной челяди, окружающей Вацлава. Все это достаточно подтверждает мои подозрения!
– Милосердый Боже, охрани невинную сироту во всех этих мерзостях, – прошептал Гус, набожно крестясь.
Опустившись затем на колени, он стал творить вечернюю молитву и лег спать, так как падал от усталости.
По выходе из комнаты приезжих гостей, Матиас вынужден был в людской еще раз повторить подробный рассказ о смерти барона; затем с ним долго говорил кастелян. Освободившись, наконец, он направился в покои Ружены и, несмотря на поздний час, тихо постучался в дверь, рядом со спальней девочки.
Дверь тотчас же отворилась.
– Я так и думала, что ты зайдешь, Матиас, и поджидала тебя, – шепотом сказала няня.
– Хотелось поговорить с тобой о постигшем нас несчастье. А что делает наша бедная пани?
– Спит наш ангел! Отчаяние и слезы в конец истощили ее. Сначала, как ее принесли сюда, я думала, уж не помешалась ли Ружена; потом она затихла, да так и уснула у меня на коленях.
Оруженосец вошел и сел у стола, на котором горела масляная лампа.
Иитка и Матиас приходились двоюродными братом и сестрой и были друзьями с детства. Оба они родились и выросли в замке и всю жизнь провели на службе у семьи Рабштейнов, которой были слепо преданы. Покойный барон Светомир знал и ценил их испытанную верность и отличал своим доверием, походившим даже на дружбу.
В комнате воцарилось молчание. Иитка тихо плакала, а Матиас, облокотясь на стол, сидел, мрачно нахмурившись.
– Ну, расскажи же, наконец, как умер наш дорогой пан. Я понять не могу, откуда взялась эта болезнь. Ведь, уезжая, он был здоров, как рыба в воде.
– Поэтому-то я убежден, что барон пал жертвой гнусного злодейства, – прошептал Матиас, нагибаясь к оторопевшей при его словах Иитке.
– Злодейство… злодейство… – беззвучно шептала она дрожавшими губами. – Да кто же мог его убить, – его, доброго, великодушного? Кому от этого какая польза?
– О, польза-то ясная! Слушай только, я тебе все расскажу, потому что уверен в твоем молчании, а ты уж потом суди сама, основательны мои подозрение или нет. Помнишь, как мне не нравился нежданный приезд итальянца-епископа. Не верю я этим фальшивым, хитрым, да вкрадчивым иноземцам; точно вот собака ползет к тебе, чтобы укусить! Так вот, накануне отъезда, раздевая барона, я постарался ловко выпытать, зачем приезжал итальянец; а пан-то наш умен был, сейчас догадался и засмеялся. Хлопнул меня по плечу, да и говорит: „Знай, старая лиса, епископ приезжал ко мне послом от моего брата Гинека, чтобы выудить у меня денег и с предложением отдать Ружену за его сына Вока. А я не намерен ни разоряться для Вальдштейнов, ни выдавать дочери за его повесу-сына, что и высказал ему. Взялся же он вести переговоры потому, что приходится сродни самой графине. Ну, так ступай теперь и спи спокойно”. До Плзни пан был совсем здоров, и болезнь с ним приключилась после ужина в „Золотом Тельце”. Уж когда мы тронулись в путь, на заре, я заметил, что барон не здоров и с трудом держится на седле; а подъехав к первому постоялому двору, он лишился чувств. Я тотчас же послал одного из наших людей в город за лекарем; барон никого уж не узнавал и горел, как в огне. Вместо врача, приехал сам епископ со своим казначеем. Пана положили на носилки и перенесли в город, в дом графа Вальдштейна. Все это очень подозрительно; епископу же я не доверяю, с тех пор, как открыл, что один из пажей его – переодетая женщина.
– Какая мерзость!
– Да, да! Ты понимаешь, Иитка, что это открытие не прибавило моего к нему уважения. И вот, когда ночью негодяй отослал всех нас, сказав, что сам будет ухаживать за больным, меня охватила такая тоска, что я глаз сомкнуть не мог. Услыхав ходьбу и говор в комнате барона, я, на всякий случай, пробрался рядом в комнату, что-то вроде кладовой, и прислушался. Говорили они хоть и тихо, а все же я понял, что наш пан диктует духовную, которую епископ потом перечел. Всего я не расслышал, но помню ясно, что опекуном Ружены назначался Розенберг, у которого она и должна воспитываться до своего замужества. Вообрази же себе, что я почувствовал, когда вчера, после положения покойного в гроб и отвоза его в церковь, граф Вальдштейн нас всех собрал и читает нам вдруг завещание, в котором уже он назначается опекуном и распорядителем состояния Ружены до ее свадьбы с его сыном, Воком; самая же помолвка, якобы по желанию покойного, должна состояться скоро.
– Да, ведь, это же наглый обман, завещание подложное, и надо их разоблачить, жаловаться!.. – вне себя вскричала Иитка.
– Жаловаться? – он горько усмехнулся, – Кому? Кто поверит обвинениям какого-нибудь бедняка, вроде меня? Всякий скажет, что это клевета! Завещание подписано самим бароном, на глазах у всех; только текст, читанный епископом, был не тот, который он писал, а как это доказать? Нет, Иитка, когда-нибудь, потом, может быть, мы и откроем ребенку всю правду, а пока приходится молчать. Меня печалит то, что здесь сейчас же начнут расхищать панское добро, а у барона в сундуке хранятся большие деньги, да и бриллианты баронессы покойной там же; они одни составляют целое богатство.
– Нельзя ли их спрятать в какой-нибудь тайник в башне? Вальдштейн никогда здесь не был и не найдет их.
– Что ж, это мысль хорошая! Ключ-то от сундука у меня, я его припрятал, как только увидал епископа с носилками. Завтра же ночью мы все и устроим!
Обсудив все подробности этого плана, они расстались.
На следующий день, перед отъездом из замка, Гус и Иероним пожелали видеть Ружену, чтобы выразить ей свое соболезнование и проститься.
Вид девочки, бледной и осунувшейся за одну ночь, растрогал их до глубины души. Со слезами на глазах, Гус привлек к себе Ружену, поцеловал в головку, благословил и долго говорил ей, стараясь пробудить в ее бедном сердце покорность воле Всевышнего и убеждая, что она не на веки же разлучена со своим отцом, что в будущей жизни она с ним свидится, если своим благочестием и добродетелью заслужит того, чтобы отец ее, с неба, заботился о ней и был ходатаем за нее перед престолом Божьим.
Горячая вера, одушевлявшая Гуса, никогда его не покидавшая и поддерживавшая до самой смерти, благотворно подействовала на чистую, впечатлительную душу девочки. Отчаяние Ружены постепенно сменилось глубокой, но спокойной скорбью и слезами, которые облегчили ее. Доверчиво и любовно взглянула она в ясные, грустные глаза своего утешителя и, обвив ручками его шею, прошептала:
– Ты добрый, мистр Ян, я тебя люблю! Останься со мной.
– Очень хотел бы, дитя мое, да дела призывают меня в Прагу, – Но я каждый день буду молиться за тебя и твоего отца. – Бог даст, мы скоро с тобой увидимся!
– И я тоже, как ты сказал, буду утром и вечером молиться Богу, думая об отце и смотря на небо, куда он ушел; пусть он знает, что я о нем постоянно думаю!
– Бедный, несчастный ребенок, безвинная жертва злобы и жадности людской, – грустно качая головой, заметил Гус, когда он со своим спутником очутился на большой дороге.
– Да, да! Она будет нуждаться в покровительстве. Из Ружены выйдет обаятельная женщина, а при ее большом состоянии, она сделается завидной добычей, и вокруг нее закопошатся все дурные страсти! – сочувственно вздыхая, подтвердил Иероним.
В ночь Иитка и Матиас пробрались в комнату покойного, и конюший отпер большой железный сундук, прикованный к стене. Оттуда они поспешно достали две большие, тяжелые шкатулки и несколько мешков с золотом: сундук закрыли, а вынутые вещи перенесли в так называемую библиотеку, где хранилась масса древних пергаментов и семейные документы. Часть стены, прикрытая полками, сдвигалась, при нажатии пружины, и открывала вход в довольно просторную комнату, откуда другой выход скрытно выводил в лес. Барон показал тайник своему верному Матиасу, чтобы он, в случае осады замка, мог им воспользоваться и спасти драгоценности, а также бежать с ребенком, если бы к этому представилась надобность. Сюда и запрятали преданные слуги мешки с деньгами, шкатулки с разными золотыми и ценными вещами и дорогую посуду.