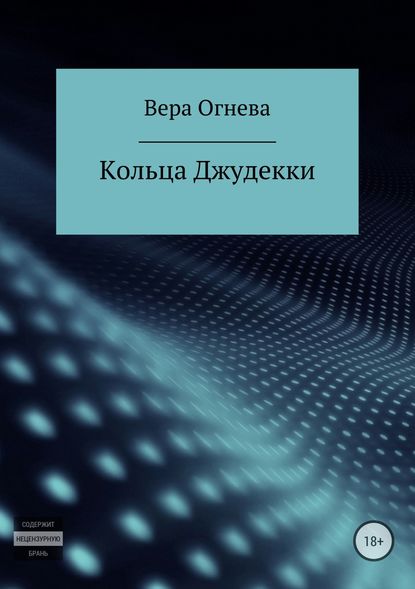По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кольца Джудекки
Автор
Год написания книги
2003
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для начала Хвостов отказался от Ильи, который был ему придан в качестве эксперта. Бледные, посеченные вертикальными морщинами, щечки особиста затвердели. Лихорадочно заблестело единственным стеклышком пенсне.
– Не проверен в деле! – проорал Хвостов.
– Вот и проверишь, – меланхолично отозвался Горимысл.
– Ранний проявленец без твердой идеологической платформы не сможет разобраться и вынести политически верное решение. Я это заявляю вам как ответственное лицо, как член трибунала, как коммунист, в конце концов.
– Что?! – взревел Горимысл. – Опять про свою веру речи завел? Последний раз от тебя слышу. Меня и господин Алмазов упреждал: начнет Лаврюшка агитировать, докладай немедленно. На спрос пойдешь. Твое счастье, зловред, что обращенных нету, – да и кто за таким дураком пойдет?! – но хоть про одного узнаю, орудовать тебе тупым крюком на очистке.
Угроза подействовала. Хвостов не противился больше, присутствию Илья при проверке. За то потом, когда Донкович написал заключение, выводы и рекомендации, на отрез отказался подписывать. Документ он обозвал грязной, провокационной клеветой на организацию медицинской помощи во вверенной ему слободе. И опять, как оказалось, зарвался.
– Не тебе вверенной – господину Алмазову, – поправил Иосафат Петрович, что-то быстро строча в листочек.
Хвостов заткнулся. Но так ничего и не подписал. Горимысл с Иосафатом переглянулись, сочувственно покивали Илье и спрятали, исписанный мелким подчерком папир, под скатерть, покрывавшую стол заседаний.
Однажды Илье высыпали в горсть пригоршню монет: медяки, да одна бледная, похожая на рыбью чешуйку серебрушка. Жалованье, – пояснил Иосафат Петрович. Илья с чисто нумизматическим интересом перебрал денежки. Куда их девать, было решительно не понятно. В слободе, конечно, существовал торг. Но что там покупать? Грубую деревянную мебелишку? Старую одежду с чужого плеча? Продукты? Илья спрятал деньги подальше. На сегодняшний день у него и так был необходимый минимум.
Выдававшаяся два раза в день, казенная каша почти ничем не отличалась от больничной, разве была чуть сытнее. В ней больше попадалось вкусных сереньких кусочков. Илья уже не морщился как в первый раз, когда узнал, что сие не мясо, а щупальца все той же монстрицы, добытые во время очистных. Вся слобода ими питалась. Илье она представлялась гигантским осьминогом, точнее – многоногом, у которого отсеченное щупальце отрастало чуть ни на глазах.
Сама тварь обитала у решетки, запиравшей единственный выход за стену. Река, – с ума сойти! – как и везде впадала в море. Для чего нужны стена и решетка? – спросил Илья.
– Это что бы твари, которы больше Сторожихи, не заползли в город и не пожрали людей.
Со слов Иосафата, заплыть в реку и пролезть по отвесной стене парапета для морских гадов труда не составляло. Откуда знает? Знает! Но чувствовалось, говорит с чужих слов. Мелких деталей, которые так оживляют рассказ очевидца, ему как раз и не доставало. Монстры и монстры. Воображение Ильи, разумеется, дорисовало, недостающие крылья, ноги и хвосты, но разум осадил: может, и чудищ-то никаких нет. А есть страшилка, чтобы за стену не лазили.
Решетка периодически забивалась илом. Уровень воды в реке начинал подниматься, и тогда с обеих сторон из Алмазовки и Игнатовки на очистку ячеек выставлялось две команды. Воду выше по реке отводили в систему каналов и искусственных озер.
Когда обнажалось дно, людей спускали на платформах к самой решетке, и они длинными отточенными по загибу крюками выворачивали комья ила. Тут и вступала со своей партией монстрица, она же Сторожиха, она же Большая Дура. Ей совсем не обязательно было плавать. Она и ползала неплохо. Опираясь частью щупальцев на дно, тварь просовывала остальные в ячейки решетки и ловила присосками людей.
Отбивались, конечно, до определенного момента. Тут важно было, очистить решетку как можно быстрее. Как только работа была выполнена, платформы с людьми отводили от решетки, и на нее подавался чудовищной силы разряд. Откуда?! – допытывался Илья. Да кто его знает, – без всякого интереса отозвался Иосафат. Горимысл, отмолчался. Вообще быстро ушел.
Отсеченные у Сторожихи, щупальца потом ела вся слобода. И не одна.
С очистных возвращалась, едва ли, половина людей. Из отрядов – никто. Однако болталась же на веревке рубаха из мягкого папира в первый день его проявления.
Илье иногда казалось – все сон. Когда страшный, когда скучный, когда даже занимательный: бесконечные перепирательства Хвостова со своими оппонентами и со всем миром… а рядом пустоглазые, пустолицые снулые. И никому ни до кого нет дела. Не велись беседы, в смысле отвлеченных разговоров. Общение сводилось к обсуждению последних новостей, качеству еды, редким сделкам. Сегодня есть, завтра – нет. Город без роду, без племени, без истории, без корней, без будущего. И сон без конца, который, возможно и есть смерть.
За что? А ни за что. Так повернулось. Никто, ни Тот что Сверху, ни тот что снизу, – если исходить из банальной теологической леммы, – участия в его судьбе не принимали. Так повернулось, – сказал Мураш. Ему легче. Там была простая как мычание жизнь. Здесь – то же самое. И все это надолго. На очень долго. Может быть, навсегда. Своей смертью тут почти не помирали. При известной доле везения, можно прожить века, – кто те века считал? – можно, наверное, и тысячелетия.
Существовал еще путь – самому оборвать эту бесконечную, серую нить, прекратить жить. Но Илья знал, он этого не сделает.
Доктор Донкович не был ТАМ набожным человеком. Не умом, подсознанием или чем-то еще, определяя для себя наличие Высшей Силы. Она не требовала внешней атрибутики. Просто была. Конкретизировать, докапываться до истоков, до генезиса, да просто праздно рассуждать о Ней он не любил. Слово «заповеди» Илья тоже не любил. Привнесены ли они Вышними Силами или выверены \выстраданы \ человечеством после тысячелетий уничтожения себе подобных, для него значения не имело. Он принимал Их. Не без оговорок конечно. В жизни вообще нет ничего абсолютного. Просто и понятно любому: не убий, не укради… не наложи на себя рук. Ибо – каждому отмеряно по силам его, и каждый обязан испить свою чашу до дна. Да и просто любопытно, что будет дальше.
В какой-то момент Илья заметил, что его вопросы начали раздражать даже устойчивого как мостовой бык Горимысла. Ответы кстати следовали не всегда. Донкович продолжал копаться в приходных книгах и донимать окружающих. Хвостов уже не раз и не два тыкал в Илью хрящеватым пальцем, призывая соратников, изгнать из рядов провокатора.
А потом наступила полоса некоего безвременья. Илья теперь много спал. Иногда он пропускал раздачу еды; когда призывали на заседание трибунала, боролся с сонливостью, вяло и неохотно исправляя свои обязанности. Еще с полдня потом в нем присутствовала некоторая бодрость. Наступала ночь, за ней тусклый день, его опять клонило в сон, все становилось безразлично.
В одно из таких коротких пробуждений от жизни-сна, Илья заметил, что сильно опустился. И без того длинные, черные волосы отрасли ниже плеч. Ногти теперь он обрезал редко и неровно. Одежда потихоньку ветшала. Он пытался ее стирать, но без привычного порошка и мыла получалось плохо. Рубашка посерела. Куртку он одевал редко, только в прохладные влажные, полные морских запахов вечера. Но выходить в такое время на улицу не считалось разумным. Крюковка – бандитской остров – конечно, была далеко за рекой, за заставами. Элемент оттуда набегал редко. Но и в тихой Алмазовке находились охотники до чужого добра. Пойманные с поличным, они, как правило, шли на очистку. До смертоубийства доходило редко. А по голове настучать, или там, сломать ребра – сколько хочешь. По местным меркам сия травма была не зело тяжкой. День два отлежисси и ступай себе, живи дальше.
Как-то, еще во времена бодрого существования, Илья задался целью: проследить путь по слободе, – в смысле жизненный путь, – хотя бы одной женщины, но натолкнулся на совершенно необъяснимую глухую стену.
Что женщины попадают в проявление гораздо реже мужчин, считалось аксиомой. Возможно, они чувствуют приближение временно-пространственной дыры и инстинктивно от нее ух уходят. Не в том дело. Те, кто попадал в проявление, после карантина, исчезали бесследно. А через некоторое время в приходном журнале Иосафата Петровича появлялась новая запись. Женщина, но не та, что проявилась – другая, поселялась в слободе. Как правило – старуха, чтобы доживать тут свой бесконечный век. Изредка – дамы постбальзаковского возраста. И совсем уже единицы – молодые, то есть, до сорока. Но количество увечий роднило этих женщин с жертвами массированной бомбардировки.
Таким образом, женщин было значительно меньше чем мужчин. Потому, видимо, в местной Правде имелся дикий по мнению Ильи, но рациональный и приемлемый для местного электората закон: все женщины общие. Принуждать их ко взаимности запрещалось. Их покупали. На время. У властной верхушки имелись отдельные жены. Так же, отдельная жена полагалась человеку, совершившему геройство во благо все слободы. У Мураша, вот, имелась отдельная жена. Но его Ивка мало, что страдала глухонемотой, передвигалась только по дому. А и в своем уме отдельную жену на улицу выпустит? Н-да! Детям при таком раскладе взяться было действительно неоткуда
Попробовав копнуть глубже, Илья нарвался на стену молчания, потом сам не заметил, как стал впадать в сонливость и вскоре потерял устойчивый интерес не только к расследованию, но и к себе самому.
Круг общения ограничился Горимыслом, Иосафатом, да Лаврюшкой. Первого Илья даже не всегда понимал. Тот говорил о своей жизни ТАМ редко и с неохотой. Его воспоминания очень сильно отличались от познаний в области истории самого Ильи. Их беседы нередко заходили в тупик. Горимысл, например, упоминал известные в его время имена, о которых Илья не имел никакого представления. Горимысл начинал гневаться, и разговор обрывался. Иосафат был ближе по времени, но и с ним не ладилось, главным образом из-за дремучей ограниченности. Несмотря на житейский ум и сметку, Иосафат навсегда чугунно уверовал в незыблемость и правоту своих взглядов. О жизни в городе Дите он все знал «доподлинно» и менять свою точку зрения не собирался. Однажды Илья краем уха услышал пьяненькую тираду бывшего НКВДшника:
– …передо мной. А я точно знаю: вра-аг! – вещал Лаврюшка, насосавшись местной, белой как ликер «Бэйлиз», слабенькой браги. – Выстрелю в него и перешагну.
И так невеликое общение после этого вообще оборвалось. Один дед Ильи погиб в лагере в тридцать девятом. Второй отсидел в общей сложности одиннадцать лет. Илья генетически не переваривал племя вертухаев.
Подползал вечер: пыльный, душный, влажный и пустой как помойное ведро. Илья выбрался из присутственных хором на задний дворик. Мэрия угнездилась на вершине холма. Со ступенек открывался широкий обзор. Было бы видно еще дальше, кабы не стена. Кто ее поставил, и каких трудов стоило строительство? От тварей обороняться? Иосафат как-то просветил Илью:
– Тебе должон быть известен зверь черепаха.
– Зверем не назову – тварюшка, в ладони уместится.
– Это ты не равняй. Не равняй. Здешние поболе нашей домины станут. На спине человек тридцать может унести. Языком овцу слизывает. Говорят, раньше их растили и к службе приучали. Ездили на них по морю. Ни левиафан, ни спрутица, ни волкомор на них нападать не могут. Но искусство, управлять сим чудом, утрачено. От того и выход к морю заложен. Ибо дети черепахи так же страшны и человекоядны как остальные обитатели пучины.
Миф конечно. Странно, что он вообще имеет хождение в культуре напрочь лишенной интереса не то что к собственной истории, да, просто, к ближнему.
Кроме стены виднелся краешек Игнатовки. Тамошние обитатели называли свою слободу городом Святого Игнатия Лойоллы. С остальными районами города Дита они себя не объединяли, считая всех внешних жителей не-то химерой, не-то выморочкой. В прошлом игнатовцы не раз предпринимали попытки захватить сопредельные территории. Их частью отгоняли, частью топили. Попытки, как поведал Горимысл, давно не повторялись. Смысл, спросил Илья? Что захватывать и присваивать в благословенном городе Дите? Горимысл пояснил:
– Веру свою несли, желая обратить в нее все окрест.
Отбив последнее нападение, городской совет Алмазовки постановил, все разговоры на религиозные темы запретить. Каждый теперь имел право на собственные убеждения, но молчком. Упоминание имя Божия, как то: Христоса, Будды, Аллаха, идола ли, и даже их атрибутов карались от замечания на первый раз, до штрафа.
Давно Илья так много и связно не думал. В последнее время мысли подернулись туманом. Будто, он лежал на дне медленной ленивой реки, безразлично глядя в надводный мир. Жизнь уподобилась вялой гусенице, которая пробирается вверх по листу, чтобы погрызть его край, поддержать в себе иллюзию жизни /если оно жизнь/…
Даже гигантская стена в последнее время перестала занимать. В первые дни он пытался влезть на крышу, вдруг оттуда разглядит море. Увидеть бы хоть краешек, хоть дымку над водой…
Кто б ему дал! Ивашка, размахивая незаряженным пистолетом, так орал, что выполз из дому даже, не склонный к суете, Горимысл; постоял, покрутил головой и непререкаемо велел вертаться; после, нехотя, пояснив:
– Не велено. Сиди тут.
Вечером ходить не велено, с людьми говорить не велено, на крышу и то нельзя! Изоляция! Илья возмутился. На что Иосафат завел пространную бодягу насчет преступления и наказания – от штрафа до вечного забвения. Горимысл отмолчался, да отвел глаза, так что стало понятно – приказ. И он, то есть, Горимысл, ничего с сим поделать не может.
Зато спалось теперь одинаково крепко и днем, и ночью. Илья не мог вспомнить, когда прежде проводил во сне по восемнадцать часов. Иногда и больше выходило. Просыпался, ел кашу с местным аналогом кальмаровых щупальцев, вяло шел в присутствие, отсиживал там положенное время, опять ел; вечером, да и то не всегда выбирался на задний дворик, чтобы подышать неподвижным душным воздухом.
Вдруг захотелось, как герой истерик в старом фильме, схватиться за кудлатую голову и заорать: «Опоили меня! Опоили!»
Да кому оно нужно-то?!
Его властно клонило в сон. Сейчас он спустится в полуподвальный этаж, найдет свою коморку, накинет крючок, и – на боковую. Пусть та жизнь, которая совсем не жизнь, продолжается сама собой, вне его. Можно и совсем не просыпаться
Илья завозился, тяжело поднимаясь с низкой ступеньки, кое-как распрямил трескучие колени, по инерции глянул на стену, даже не глянул – скользнул глазами. Серое небо, отороченное снизу черной зубчатой каймой…