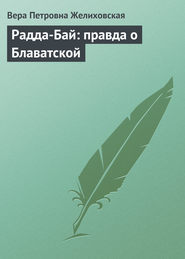По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Подруги. Над пучиной (сборник)
Жанр
Серия
Год написания книги
1896
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доктор сказал свой адрес, а затем обратился к Надежде Николаевне:
– Прикажете отвезти вас домой?
Надя в ответ рассмеялась, впрочем, не очень весело:
– Нет уж, благодарствуйте!.. Меня сегодня и так вашим помощником окрестили и в сестры милосердия посоветовали пойти, a уж если я еще с вами кататься начну, так Софья Никандровна мне точно спуску не даст.
Антон Петрович только покачал головой.
– Я сказала папе, что вернусь только к обеду; так я и сделаю, – добавила Надя.
– Ну, a он что, Николай-то Николаевич, не сердился?
– Когда я объяснила ему, в чем дело, разумеется, он не сердился. Но прежде ему так все представили, что он очень встревожился. Эх, впрочем, все равно! – с досадой махнула она рукой. – Мне к таким домашним удовольствиям не привыкать, вы же знаете, Антон Петрович!
– Знаю я, знаю, что одна моя знакомая барышня – очень беспокойного характера особа! Нетерпеливая, непокорная, своевольная… – шутил доктор.
– Ну, и знайте себе на здоровье, если уж вы такой обидчик несправедливый! – в тон ему отвечала Надежда Николаевна.
Доктор уехал, a Надя, уговорив Савину заняться, как всегда, своим хозяйством, села у окна – сторожить больного и поджидать возвращения подруги. Павлуша очень ослабел и почти все время дремал. Степа то уходил к матери на кухню, то принимался твердить свой урок. Поговорить было не с кем, и девушка погрузилась в печальные размышления. Впрочем, вскоре они были прерваны появлением ее горничной Марфуши с целым транспортом: она привезла железную кровать с тюфяком и постелью для Маши Савиной, и они принялись ее устанавливать. На восторженные благодарности Марьи Ильиничны Надя только повторяла:
– Какой вздор! Стоит ли говорить об этом? У нас в кладовой еще две таких стоят без употребления.
Это была сущая правда, но только те кровати с постелями так и продолжали стоять в кладовой генеральши Молоховой: она не позволила падчерице их тронуть.
А кровать с постелью, привезенную Марфушей, Надежда Николаевна просто купила на собственные деньги. Когда Маша вернулась домой, она нашла свой угол в полном порядке, и даже гораздо лучше и нарядней, чем было. Благодарить словами она не умела, но ее привязанность к подруге с этого дня стала еще горячее.
Глава VII
Добрый друг
В течение долгой болезни и медленного выздоровления брата Маше действительно пришлось многим быть обязанной Наде – столь многим, что о половине ее помощи Савины даже и не знали. За полтора месяца почти не было дня, чтобы девушка не навещала семью своей подруги. Она старалась делать все, что было в ее силах, для их благополучия. Сначала мальчики и сам старик Савин ее немного дичились, стеснялись в ее присутствии; но Надя всегда была так проста и ласкова в обращении, так непритязательна, что вскоре все к ней привыкли. Ее дружба имела в материальном отношении самое благотворное влияние на жизнь семьи, – влияние, которое она умела распространить так деликатно, что оно не только не оскорбляло ничьей гордости, но в большей части случаев Савины его просто не замечали. Кроме того, частые посещения Молоховой были полезны и в другом, нравственном отношении. Она развлекала и ободряла и больного мальчика, и его забитую горестями жизни мать; она облегчала ее и Машины заботы, незаметно снимая с них множество домашних обязанностей. То она занималась с младшим Савиным, то отбирала у них шитье, уверяя, что дома пропадет от скуки и безделья, то, закончив свои занятия раньше подруги, приходила, садилась за рабочий столик и переписывала за Машу бумаги для старика Савина. A уж ее вечерние чтения у кровати Павлуши, послушать которые собиралась вся семья, – сколько удовольствия они приносили! В такие минуты и Маша, оставляя уроки и переписку, садилась с шитьем возле матери и слушала давно ей знакомые вещи с таким удовольствием, как будто не имела понятия об этих славных произведениях. Обе подруги не столько следили за развитием сюжетов бессмертных рассказов и повестей Гоголя, Пушкина и Лермонтова, сколько за тем впечатлением, которое они производили не только на мальчиков, не имевших о них представления, но и на старших, быть может, когда-то и слышавших что-нибудь, но успевших утратить воспоминания об этом в жизненных передрягах и заботах. Удивительное впечатление производили эти чтения Надежды Николаевны! Она охотно устраивала бы их чаще, но не всегда хватало времени. Все же раза два в неделю ей удавалось объединять с их помощью всю семью – к величайшему своему удовольствию и несказанному счастью старшей сестры, которое до известной степени разделяла и мать Савиных. Она, помимо прочего, втайне была более всего благодарна Молоховой за то спокойствие и душевный мир, которые присутствие девушки внесло в их быт.
– Дай Бог ей здоровья, голубушке! – часто говорила она дочери. – С ней будто бы все у нас посветлело. И даже Пашина болезнь не в горе! Я уж о нем, о Паше-то, и говорить не хочу, a ты погляди на отца, на Михайло Маркелыча, – что с ним сталось! Особливо как барышня тут, – так и не слыхать его голосу!.. Я прежде думала, это он сдерживается, невмоготу ему будет, что так она у нас изо дня в день, и ему себя смирять нужно, a теперь – ты посмотри! Отец уж и без нее куда мягче стал. Редко когда рассердится; a чтобы все с рыву, да с маху, как прежде бывало, – этого и ни Боже мой!.. A уж как выдастся ему часок послушать, что она читает, – он и вовсе повеселеет. Давно я его таким не видывала… Это смолоду, когда нам получше жилось, не бывало такой нужды, он изредка в театр хаживал; так вот, бывало, такой возвращался. Третьего дня, как начал он после этой ярмарки – как ее? Сорочинской, что ли, – что Надежда Николаевна читала… Как начал свою Малороссию да молодые годы вспоминать, – так и я тоже то счастливое времечко вспомнила! Дай, Господи, здоровья барышне!..
Савина, несмотря на неудовольствие Молоховой и на постоянные замечания дочери, продолжала упорно называть Надю барышней. Марья Ильинична была простой, малограмотной женщиной; богатую девушку, дочь генерала, занимавшего одно из первых мест в их городе, как бы просто та себя ни держала, она не могла считать ровней.
Надю радовало сознание приносимой ею пользы и тепло, с которым все в доме Савиных встречали ее приход. Но помимо желания оказать помощь семье искренне любимой подруги, ей самой приятно было находиться в этом тесном домашнем кругу, где все было неказисто и бедно, но зато вполне искренне, мирно и просто. Непритязательную и прямодушную от природы девушку, одаренную горячим сердцем, готовым к искренней привязанности, очень тяготила атмосфера в ее собственном доме. Натянутые отношения с мачехой да отчасти и с отцом, с которым она не могла быть вполне искренней – ради его же спокойствия; враждебные чувства старших детей и ее собственная ответная настороженность – словом, вся фальшь их жизни претила ее в высшей степени правдивой натуре и, несмотря на глубокую любовь отца и даже баловство, которым была окружена Надя, порой делала ее очень несчастной. К дому ее привязывали исключительно отец и двое младших детей, в особенности беспомощная, не любимая матерью Фима. У Савиных же Надя отдыхала от всякого стеснения; здесь ей было больше по душе, чем в доме мачехи.
Время летело быстро; шесть недель промелькнули незаметно, и пришло время снять гипсовую повязку с Павлуши Савина. И он сам даже не слишком тяготился продолжительностью своей болезни – благодаря заботам Надежды Николаевны и в особенности книгам, которые она во множестве ему доставляла. В конце октября как раз был день рождения мальчика, и в это же время доктор позволил ему сидеть в кресле, хотя он был еще так слаб, что почти совсем не мог ходить. С утра погода была дурная и довольно холодная. Павлуша сидел, обложенный подушками, и печально смотрел в окно, размышляя о том, что вряд ли Надежда Николаевна сегодня приедет. Еще за несколько дней до этого он просил своего товарища, пришедшего его навестить, уговорить главного садовника прислать ему хороший букет. Садовник любил работящего и смышленого ученика. Он сам с нетерпением ждал возвращения Савина и не отказал ему в этой просьбе. И вот теперь прекрасный букет стоял на столе, в ожидании желанной гостьи, a погода становилась все хуже и хуже… К обеду собралась вся семья. Вернулся со службы старик, опять не в духе – наверное, тоже в связи с непогодой; прибежал Степа из училища, весь мокрый, озябший, но с широкой улыбкой на лице – в ожидании пирога; возвратилась из гимназии и Маша, сильно продрогнув в своей легкой тальмочке. Павел увидел, как она осторожно пробиралась у стены мимо окна, стараясь обойти грязь и прикрывая зонтиком не столько себя, сколько свои книги и какой-то пакет. Она улыбнулась ему, войдя в комнату, и тотчас поняла его вопросительный взгляд.
– Надежда Николаевна приедет, – сказала она, – только она просила ее не ждать, потому что ее маленькая сестра не совсем здорова.
– Значит, только вечером? – спросил Павлуша. – Только бы букет не завял!
– Не бойся, не завянет! – успокоила его сестра. – А ты посмотри, что тебе прислала наша начальница. Вот уж добрая, заботливая душа!
– Разве она знала, что сегодня Пашино рождение? – с изумлением осведомился Степа.
– Она-то не знала, да услышала, что Надя с Верой Алексеевной об этом говорят, вот она и вынесла вязаную фуфайку. Посмотри, какая теплая. Она вечно вяжет что-нибудь, а потом раздаривает. «Вашему, – говорит, – брату теперь надо беречься простуды, вот, передайте ему, пусть носит на здоровье».
– Дай Бог ей самой здоровья! – отозвалась Марья Ильинична, радостно рассматривая фуфайку.
Она тщательно сложила подарок Александры Яковлевны и, отойдя к дверям, таинственно поманила к себе дочь. Маша подошла и в недоумении спросила:
– В чем дело, маменька?
– A ты иди-ка сюда, иди! – говорила та, увлекая ее в тесную кухоньку. – Прочти-ка вот это!
Маша взяла из рук матери почтовый листок. Это была записка Молоховой к Марье Ильиничне, в которой та упрашивала ее принять новую одежду для Паши и сказать, что это она сама ему купила на сбереженные деньги. «В прошлый раз я заметила, что мои подарки смутили его и были неприятны вашему мужу, – писала Надя, – поэтому я и прошу вас оказать мне эту услугу, добрая Марья Ильинична. Вы, я знаю, поймете, какого удовольствия меня лишили, если бы не согласились войти со мной в сговор. Я так люблю Пашу и всю вашу семью, что вы делаете мне большое одолжение и доставляете истинное удовольствие, когда позволяете давать вам, что могу. Лучшего и более для меня приятного использования денег, которые отец дает мне на мои развлечения, я, право, и придумать не в состоянии…»
Маша прочла и задумалась.
– Ну, видишь?.. Что ж мне делать, как ты думаешь? – нетерпеливо спрашивала мать. – Не взять – ее огорчим, да и как же нам Пашу теперь одеть? Ну, a сказать, что это я сама ему купила, так кто ж мне поверит? И опять же – боюсь, как бы Михайло Маркелыч не осерчал; он и то уж как-то говорил: за нищих, что ли, она нас принимает? К чему, мол, эти подачки? Были-де и без нее живы… Ишь ты, гордость-то какая! A я, ей-Богу, ничего такого и не вижу в том, чтобы от хорошего человека помощь принять. Какое ж тут унижение? Унижение, вон, красть али выпрашивать, клянчить. A мы этого не делаем, ее воля. За что же нам ее отказом обижать?..
– Так как мы с вами рассуждаем, маменька, – заговорила, словно вдруг проснувшись, Маша, – думают далеко не все. А только те люди, которые чувствуют и твердо уверены, что для них самих величайшим счастьем было бы другим делать добро и свое отдавать. Если бы только было из чего давать, – со вздохом прибавила она.
– Да, разумеется, так и есть! Дал бы мне Господь достаток, разве пожалела бы я уделить бедному? С радостью!..
– Не надо никаких тайн делать, по-моему, a просто дать отцу и Паше прочесть это ее письмо, – сказала Маша. – Я уверена, что сами они поймут, что отказываться неуместно и даже грубо.
Так они и сделали, и все обошлось хорошо. Не только обрадованный прекрасным подарком мальчик, но и сам Савин были глубоко тронуты вниманием и письмом Надежды Николаевны. И за обедом, отведав удавшегося на славу пирога, старик несколько раз повторил: «Да, это человек, каких на белом свете мало!..»
A когда уже в сумерках приехала долгожданная гостья и весело, как ни в чем не бывало, вошла в комнату с тортом в руках и, как будто это был ее единственный подарок, с поклоном поставила его перед Павлушей, все приветствовали ее с такой горячей благодарностью, что она сразу поняла: ее хитрый план не сработал…
– Ну-с, прежде всего мы торт попробуем, – сказала она. – Это моя повинная – сама ваш пирог прозевала, так уж, нечего делать, привезла другой, чтоб не остаться совсем без сладкого! Надеюсь, он вкусный. А потом я вам прочту один рассказ – очень милый и смешной. Я уверена, что Павлуше понравится.
– Еще бы не понравится! Всем понравится! – единодушно отозвалось все общество.
– Он так уверен, что твое чтение всегда заслуживает похвалы, что заранее тебе и букет приготовил, – сказала Маша, придвигая брату цветы.
– Совсем не потому! – сконфуженно отозвался Павел. – Что ты это, Маша! Я просто… Мне товарищ принес, ну а я… На что он мне?
– Неправда, неправда! – вмешался Степа. – Разве мы не слышали, как ты нарочно просил его для Надежды Николаевны принести? Ишь какой – еще и отпирается!
Все засмеялись над смущенным мальчиком, кроме Нади, которая ласково взглянула на него и сказала, любуясь букетом:
– Нарочно или нет, но я очень благодарна вам, Паша, за память… Да и за эти прекрасные цветы. Я так их люблю. Павлуша знает, как доставить мне удовольствие!
Глава VIII
Семейные передряги
В один из зимних дней в просторной детской Молоховых, залитой янтарными лучами уже заходящего солнца, Клавдия, стоя у окна и рассматривая чудесные узоры на стеклах, которыми разрисовал их дедушка-мороз, затеяла разговор о том, почему зимой такой короткий день. С этим вопросом она обратилась к Тане, сидевшей на ковре с маленьким Витей. Таня была большая девочка, гораздо старше барышни Клавдии Николаевны, и очень смышленая. Обязанности ее состояли в том, чтобы быть на посылках у нянюшки; но нянюшка любила подолгу распивать кофе и разговаривать в кухне, a потому дети, Фимочка и Витя, часто оставались на попечении одной Тани. Иногда она прекрасно забавляла Витю, играла с ним и старшей девочкой, рассказывала им сказки и пела песни. Но зато порой, когда она бывала не в духе, обоим детям приходилось плохо, особенно от вполне чувствительных Таниных щипков. Жалоб она не боялась: Витя был еще слишком мал, a Серафима была кроткой и боязливой девочкой; старших же Таня ловко умела остерегаться.
Вот и теперь, едва заслышав шаги в смежной комнате, Таня тут же запрятала в карман семечки, которые грызла, не обращая на детей никакого внимания, и, схватив мячик, уселась на ковер против Виктора, будто все время забавляла его, катая по полу мяч. Шестилетняя Фимочка и до этого, и после того, как вошла ее няня, смирно сидела на скамеечке у низенького столика и, опершись локотками на книгу с картинками, смотрела на опушенные снегом верхушки деревьев за окном.
Завершив беседу на том, что зимой солнце по вечерам не нужно, старшие девочки, барышня и горничная продолжали весело переговариваться о разных разностях, но Серафима их не слушала. Она глубоко задумалась. У нее часто бывали свои, особые думы, чрезвычайно занимавшие болезненную девочку, которая пытливо вглядывалась во весь Божий мир, понемногу открывавшийся ее сознанию. Фимочка была почти всегда серьезна и сосредоточенна; она мало говорила и не любила никого, кроме старшей сестры, Нади. Еще она немножко любила отца, а иногда и братишку Витю – когда он не шумел и не дразнил ее. О своих думах она никогда никому, кроме Нади, не говорила. С Надей же она любила беседовать в одиночку, забравшись к ней на колени и тихо-тихо расспрашивая ее обо всем, что занимало ее детскую головку. Как часто вопросы этого ребенка изумляли Надежду Николаевну и как ей порой было трудно на них отвечать!
– Прикажете отвезти вас домой?
Надя в ответ рассмеялась, впрочем, не очень весело:
– Нет уж, благодарствуйте!.. Меня сегодня и так вашим помощником окрестили и в сестры милосердия посоветовали пойти, a уж если я еще с вами кататься начну, так Софья Никандровна мне точно спуску не даст.
Антон Петрович только покачал головой.
– Я сказала папе, что вернусь только к обеду; так я и сделаю, – добавила Надя.
– Ну, a он что, Николай-то Николаевич, не сердился?
– Когда я объяснила ему, в чем дело, разумеется, он не сердился. Но прежде ему так все представили, что он очень встревожился. Эх, впрочем, все равно! – с досадой махнула она рукой. – Мне к таким домашним удовольствиям не привыкать, вы же знаете, Антон Петрович!
– Знаю я, знаю, что одна моя знакомая барышня – очень беспокойного характера особа! Нетерпеливая, непокорная, своевольная… – шутил доктор.
– Ну, и знайте себе на здоровье, если уж вы такой обидчик несправедливый! – в тон ему отвечала Надежда Николаевна.
Доктор уехал, a Надя, уговорив Савину заняться, как всегда, своим хозяйством, села у окна – сторожить больного и поджидать возвращения подруги. Павлуша очень ослабел и почти все время дремал. Степа то уходил к матери на кухню, то принимался твердить свой урок. Поговорить было не с кем, и девушка погрузилась в печальные размышления. Впрочем, вскоре они были прерваны появлением ее горничной Марфуши с целым транспортом: она привезла железную кровать с тюфяком и постелью для Маши Савиной, и они принялись ее устанавливать. На восторженные благодарности Марьи Ильиничны Надя только повторяла:
– Какой вздор! Стоит ли говорить об этом? У нас в кладовой еще две таких стоят без употребления.
Это была сущая правда, но только те кровати с постелями так и продолжали стоять в кладовой генеральши Молоховой: она не позволила падчерице их тронуть.
А кровать с постелью, привезенную Марфушей, Надежда Николаевна просто купила на собственные деньги. Когда Маша вернулась домой, она нашла свой угол в полном порядке, и даже гораздо лучше и нарядней, чем было. Благодарить словами она не умела, но ее привязанность к подруге с этого дня стала еще горячее.
Глава VII
Добрый друг
В течение долгой болезни и медленного выздоровления брата Маше действительно пришлось многим быть обязанной Наде – столь многим, что о половине ее помощи Савины даже и не знали. За полтора месяца почти не было дня, чтобы девушка не навещала семью своей подруги. Она старалась делать все, что было в ее силах, для их благополучия. Сначала мальчики и сам старик Савин ее немного дичились, стеснялись в ее присутствии; но Надя всегда была так проста и ласкова в обращении, так непритязательна, что вскоре все к ней привыкли. Ее дружба имела в материальном отношении самое благотворное влияние на жизнь семьи, – влияние, которое она умела распространить так деликатно, что оно не только не оскорбляло ничьей гордости, но в большей части случаев Савины его просто не замечали. Кроме того, частые посещения Молоховой были полезны и в другом, нравственном отношении. Она развлекала и ободряла и больного мальчика, и его забитую горестями жизни мать; она облегчала ее и Машины заботы, незаметно снимая с них множество домашних обязанностей. То она занималась с младшим Савиным, то отбирала у них шитье, уверяя, что дома пропадет от скуки и безделья, то, закончив свои занятия раньше подруги, приходила, садилась за рабочий столик и переписывала за Машу бумаги для старика Савина. A уж ее вечерние чтения у кровати Павлуши, послушать которые собиралась вся семья, – сколько удовольствия они приносили! В такие минуты и Маша, оставляя уроки и переписку, садилась с шитьем возле матери и слушала давно ей знакомые вещи с таким удовольствием, как будто не имела понятия об этих славных произведениях. Обе подруги не столько следили за развитием сюжетов бессмертных рассказов и повестей Гоголя, Пушкина и Лермонтова, сколько за тем впечатлением, которое они производили не только на мальчиков, не имевших о них представления, но и на старших, быть может, когда-то и слышавших что-нибудь, но успевших утратить воспоминания об этом в жизненных передрягах и заботах. Удивительное впечатление производили эти чтения Надежды Николаевны! Она охотно устраивала бы их чаще, но не всегда хватало времени. Все же раза два в неделю ей удавалось объединять с их помощью всю семью – к величайшему своему удовольствию и несказанному счастью старшей сестры, которое до известной степени разделяла и мать Савиных. Она, помимо прочего, втайне была более всего благодарна Молоховой за то спокойствие и душевный мир, которые присутствие девушки внесло в их быт.
– Дай Бог ей здоровья, голубушке! – часто говорила она дочери. – С ней будто бы все у нас посветлело. И даже Пашина болезнь не в горе! Я уж о нем, о Паше-то, и говорить не хочу, a ты погляди на отца, на Михайло Маркелыча, – что с ним сталось! Особливо как барышня тут, – так и не слыхать его голосу!.. Я прежде думала, это он сдерживается, невмоготу ему будет, что так она у нас изо дня в день, и ему себя смирять нужно, a теперь – ты посмотри! Отец уж и без нее куда мягче стал. Редко когда рассердится; a чтобы все с рыву, да с маху, как прежде бывало, – этого и ни Боже мой!.. A уж как выдастся ему часок послушать, что она читает, – он и вовсе повеселеет. Давно я его таким не видывала… Это смолоду, когда нам получше жилось, не бывало такой нужды, он изредка в театр хаживал; так вот, бывало, такой возвращался. Третьего дня, как начал он после этой ярмарки – как ее? Сорочинской, что ли, – что Надежда Николаевна читала… Как начал свою Малороссию да молодые годы вспоминать, – так и я тоже то счастливое времечко вспомнила! Дай, Господи, здоровья барышне!..
Савина, несмотря на неудовольствие Молоховой и на постоянные замечания дочери, продолжала упорно называть Надю барышней. Марья Ильинична была простой, малограмотной женщиной; богатую девушку, дочь генерала, занимавшего одно из первых мест в их городе, как бы просто та себя ни держала, она не могла считать ровней.
Надю радовало сознание приносимой ею пользы и тепло, с которым все в доме Савиных встречали ее приход. Но помимо желания оказать помощь семье искренне любимой подруги, ей самой приятно было находиться в этом тесном домашнем кругу, где все было неказисто и бедно, но зато вполне искренне, мирно и просто. Непритязательную и прямодушную от природы девушку, одаренную горячим сердцем, готовым к искренней привязанности, очень тяготила атмосфера в ее собственном доме. Натянутые отношения с мачехой да отчасти и с отцом, с которым она не могла быть вполне искренней – ради его же спокойствия; враждебные чувства старших детей и ее собственная ответная настороженность – словом, вся фальшь их жизни претила ее в высшей степени правдивой натуре и, несмотря на глубокую любовь отца и даже баловство, которым была окружена Надя, порой делала ее очень несчастной. К дому ее привязывали исключительно отец и двое младших детей, в особенности беспомощная, не любимая матерью Фима. У Савиных же Надя отдыхала от всякого стеснения; здесь ей было больше по душе, чем в доме мачехи.
Время летело быстро; шесть недель промелькнули незаметно, и пришло время снять гипсовую повязку с Павлуши Савина. И он сам даже не слишком тяготился продолжительностью своей болезни – благодаря заботам Надежды Николаевны и в особенности книгам, которые она во множестве ему доставляла. В конце октября как раз был день рождения мальчика, и в это же время доктор позволил ему сидеть в кресле, хотя он был еще так слаб, что почти совсем не мог ходить. С утра погода была дурная и довольно холодная. Павлуша сидел, обложенный подушками, и печально смотрел в окно, размышляя о том, что вряд ли Надежда Николаевна сегодня приедет. Еще за несколько дней до этого он просил своего товарища, пришедшего его навестить, уговорить главного садовника прислать ему хороший букет. Садовник любил работящего и смышленого ученика. Он сам с нетерпением ждал возвращения Савина и не отказал ему в этой просьбе. И вот теперь прекрасный букет стоял на столе, в ожидании желанной гостьи, a погода становилась все хуже и хуже… К обеду собралась вся семья. Вернулся со службы старик, опять не в духе – наверное, тоже в связи с непогодой; прибежал Степа из училища, весь мокрый, озябший, но с широкой улыбкой на лице – в ожидании пирога; возвратилась из гимназии и Маша, сильно продрогнув в своей легкой тальмочке. Павел увидел, как она осторожно пробиралась у стены мимо окна, стараясь обойти грязь и прикрывая зонтиком не столько себя, сколько свои книги и какой-то пакет. Она улыбнулась ему, войдя в комнату, и тотчас поняла его вопросительный взгляд.
– Надежда Николаевна приедет, – сказала она, – только она просила ее не ждать, потому что ее маленькая сестра не совсем здорова.
– Значит, только вечером? – спросил Павлуша. – Только бы букет не завял!
– Не бойся, не завянет! – успокоила его сестра. – А ты посмотри, что тебе прислала наша начальница. Вот уж добрая, заботливая душа!
– Разве она знала, что сегодня Пашино рождение? – с изумлением осведомился Степа.
– Она-то не знала, да услышала, что Надя с Верой Алексеевной об этом говорят, вот она и вынесла вязаную фуфайку. Посмотри, какая теплая. Она вечно вяжет что-нибудь, а потом раздаривает. «Вашему, – говорит, – брату теперь надо беречься простуды, вот, передайте ему, пусть носит на здоровье».
– Дай Бог ей самой здоровья! – отозвалась Марья Ильинична, радостно рассматривая фуфайку.
Она тщательно сложила подарок Александры Яковлевны и, отойдя к дверям, таинственно поманила к себе дочь. Маша подошла и в недоумении спросила:
– В чем дело, маменька?
– A ты иди-ка сюда, иди! – говорила та, увлекая ее в тесную кухоньку. – Прочти-ка вот это!
Маша взяла из рук матери почтовый листок. Это была записка Молоховой к Марье Ильиничне, в которой та упрашивала ее принять новую одежду для Паши и сказать, что это она сама ему купила на сбереженные деньги. «В прошлый раз я заметила, что мои подарки смутили его и были неприятны вашему мужу, – писала Надя, – поэтому я и прошу вас оказать мне эту услугу, добрая Марья Ильинична. Вы, я знаю, поймете, какого удовольствия меня лишили, если бы не согласились войти со мной в сговор. Я так люблю Пашу и всю вашу семью, что вы делаете мне большое одолжение и доставляете истинное удовольствие, когда позволяете давать вам, что могу. Лучшего и более для меня приятного использования денег, которые отец дает мне на мои развлечения, я, право, и придумать не в состоянии…»
Маша прочла и задумалась.
– Ну, видишь?.. Что ж мне делать, как ты думаешь? – нетерпеливо спрашивала мать. – Не взять – ее огорчим, да и как же нам Пашу теперь одеть? Ну, a сказать, что это я сама ему купила, так кто ж мне поверит? И опять же – боюсь, как бы Михайло Маркелыч не осерчал; он и то уж как-то говорил: за нищих, что ли, она нас принимает? К чему, мол, эти подачки? Были-де и без нее живы… Ишь ты, гордость-то какая! A я, ей-Богу, ничего такого и не вижу в том, чтобы от хорошего человека помощь принять. Какое ж тут унижение? Унижение, вон, красть али выпрашивать, клянчить. A мы этого не делаем, ее воля. За что же нам ее отказом обижать?..
– Так как мы с вами рассуждаем, маменька, – заговорила, словно вдруг проснувшись, Маша, – думают далеко не все. А только те люди, которые чувствуют и твердо уверены, что для них самих величайшим счастьем было бы другим делать добро и свое отдавать. Если бы только было из чего давать, – со вздохом прибавила она.
– Да, разумеется, так и есть! Дал бы мне Господь достаток, разве пожалела бы я уделить бедному? С радостью!..
– Не надо никаких тайн делать, по-моему, a просто дать отцу и Паше прочесть это ее письмо, – сказала Маша. – Я уверена, что сами они поймут, что отказываться неуместно и даже грубо.
Так они и сделали, и все обошлось хорошо. Не только обрадованный прекрасным подарком мальчик, но и сам Савин были глубоко тронуты вниманием и письмом Надежды Николаевны. И за обедом, отведав удавшегося на славу пирога, старик несколько раз повторил: «Да, это человек, каких на белом свете мало!..»
A когда уже в сумерках приехала долгожданная гостья и весело, как ни в чем не бывало, вошла в комнату с тортом в руках и, как будто это был ее единственный подарок, с поклоном поставила его перед Павлушей, все приветствовали ее с такой горячей благодарностью, что она сразу поняла: ее хитрый план не сработал…
– Ну-с, прежде всего мы торт попробуем, – сказала она. – Это моя повинная – сама ваш пирог прозевала, так уж, нечего делать, привезла другой, чтоб не остаться совсем без сладкого! Надеюсь, он вкусный. А потом я вам прочту один рассказ – очень милый и смешной. Я уверена, что Павлуше понравится.
– Еще бы не понравится! Всем понравится! – единодушно отозвалось все общество.
– Он так уверен, что твое чтение всегда заслуживает похвалы, что заранее тебе и букет приготовил, – сказала Маша, придвигая брату цветы.
– Совсем не потому! – сконфуженно отозвался Павел. – Что ты это, Маша! Я просто… Мне товарищ принес, ну а я… На что он мне?
– Неправда, неправда! – вмешался Степа. – Разве мы не слышали, как ты нарочно просил его для Надежды Николаевны принести? Ишь какой – еще и отпирается!
Все засмеялись над смущенным мальчиком, кроме Нади, которая ласково взглянула на него и сказала, любуясь букетом:
– Нарочно или нет, но я очень благодарна вам, Паша, за память… Да и за эти прекрасные цветы. Я так их люблю. Павлуша знает, как доставить мне удовольствие!
Глава VIII
Семейные передряги
В один из зимних дней в просторной детской Молоховых, залитой янтарными лучами уже заходящего солнца, Клавдия, стоя у окна и рассматривая чудесные узоры на стеклах, которыми разрисовал их дедушка-мороз, затеяла разговор о том, почему зимой такой короткий день. С этим вопросом она обратилась к Тане, сидевшей на ковре с маленьким Витей. Таня была большая девочка, гораздо старше барышни Клавдии Николаевны, и очень смышленая. Обязанности ее состояли в том, чтобы быть на посылках у нянюшки; но нянюшка любила подолгу распивать кофе и разговаривать в кухне, a потому дети, Фимочка и Витя, часто оставались на попечении одной Тани. Иногда она прекрасно забавляла Витю, играла с ним и старшей девочкой, рассказывала им сказки и пела песни. Но зато порой, когда она бывала не в духе, обоим детям приходилось плохо, особенно от вполне чувствительных Таниных щипков. Жалоб она не боялась: Витя был еще слишком мал, a Серафима была кроткой и боязливой девочкой; старших же Таня ловко умела остерегаться.
Вот и теперь, едва заслышав шаги в смежной комнате, Таня тут же запрятала в карман семечки, которые грызла, не обращая на детей никакого внимания, и, схватив мячик, уселась на ковер против Виктора, будто все время забавляла его, катая по полу мяч. Шестилетняя Фимочка и до этого, и после того, как вошла ее няня, смирно сидела на скамеечке у низенького столика и, опершись локотками на книгу с картинками, смотрела на опушенные снегом верхушки деревьев за окном.
Завершив беседу на том, что зимой солнце по вечерам не нужно, старшие девочки, барышня и горничная продолжали весело переговариваться о разных разностях, но Серафима их не слушала. Она глубоко задумалась. У нее часто бывали свои, особые думы, чрезвычайно занимавшие болезненную девочку, которая пытливо вглядывалась во весь Божий мир, понемногу открывавшийся ее сознанию. Фимочка была почти всегда серьезна и сосредоточенна; она мало говорила и не любила никого, кроме старшей сестры, Нади. Еще она немножко любила отца, а иногда и братишку Витю – когда он не шумел и не дразнил ее. О своих думах она никогда никому, кроме Нади, не говорила. С Надей же она любила беседовать в одиночку, забравшись к ней на колени и тихо-тихо расспрашивая ее обо всем, что занимало ее детскую головку. Как часто вопросы этого ребенка изумляли Надежду Николаевну и как ей порой было трудно на них отвечать!