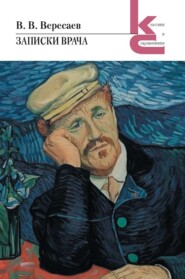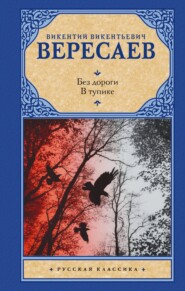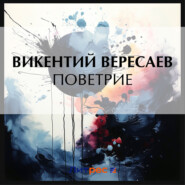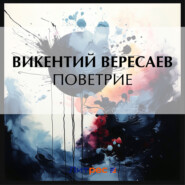По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гоголь в жизни
Жанр
Серия
Год написания книги
1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вам угодно, чтобы я сказала мое опасение за вас. Извольте; помолясь, приступаю. Знайте, мой друг, – слухи, может, и несправедливы, но приезжавшие все одно говорят и оттуда пишут то же, – что вы предались одной особе, которая всю жизнь провела в свете и теперь от него удалилась. Быв уже так долго вместе с человеком, послужит ли эта беседа на пользу душе вашей? Мне страшно, – и в таком обществе как бы не отвлеклись, от пути, который вы, по благости божией, избрали. Вот вам, как исповедь, мой друг, что меня за вас так сильно и так давно огорчает. Может, вы печетесь о ее обращении; помоги господи и дай боже и ей, и нам, и всем спастись.
Н. Н. Шереметева – Гоголю, из Москвы. Шенрок VI, 198.
Ты спрашиваешь, зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже. Переезды мои большею частью зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют: мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтоб увидеться с людьми, нужными душе моей, ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, – что знакомства и сближения наши с людьми вовсе не даны для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитание; а мне нужно еще слишком много воспитаться. Посему о самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло, точно, что-нибудь умное и дельное.
Гоголь – А. С. Данилевскому, из Франкфурта. Письма, II, 419.
Когда Жуковский жил во Франкфурте-на-Майне, Гоголь прогостил у него довольно долго. Однажды, – это было в присутствии графа А. К. Толстого (поэта), – Гоголь пришел в кабинет Жуковского и, разговаривая со своим другом, обратил внимание на карманные часы с золотой цепочкой, висевшие на стене. «Чьи это часы?» – спросил он. «Мои», – отвечал Жуковский. «Ах, часы Жуковского! Никогда с ними не расстанусь». С этими словами Гоголь надел цепочку на шею, положил часы в карман, и Жуковский, восхищаясь его проказливостью, должен был отказаться от своей собственности.
П. А. Кулиш со слов гр. А. К. Толстого. Записки о жизни Гоголя, I, 231.
Писать не могу по причине совершенного запрещения по поводу приливов крови к голове. За дурным временем я должен был остаться во Франкфурте. Морских купаний нельзя было еще начинать, – тем более, что я как-то сделался склоннее к простуде, чем когда прежде. Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души». И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть, и притом так самый предмет и дело связаны с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед, – идет и сочинение; я остановился, нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек.
Гоголь – Н. М. Языкову, 14 июля 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 464.
Я был слишком болен летом и так дурен, как давно себя не помню. Нервы до такой степени были расстроены, что не в силах был не только что-нибудь делать, но даже ничего не делать, то есть пребывать в блаженной на ту пору бесчувственности.
Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 508.
Таких несносных и таких тягостных припадков я давно не испытывал. Больной еду я теперь, по приказанию доктора, поспешно в Остенде, иначе мне грозит он гораздо худшим состоянием.
Гоголь – графине С. М. Соллогуб, 24 июля 1844 г., из Франкфурта. Соч. Гоголя, изд. Брокгауза – Ефрона, IX, 248.
Однажды, остановясь во Франкфурте-на-Майне, в гостинице «Der weisse Schwan», Гоголь вздумал ехать куда-то далее и, чтобы не встретить остановки по случаю отправки вещей, велел накануне отъезда гаускнехту (то, что у нас в трактирах – половой) уложить все вещи в чемодан, когда еще не будет спать, и отправить туда-то. Утром, на другой день после этого распоряжения, посетил Гоголя граф А. К. Толстой, и Гоголь принял своего гостя в самом странном наряде – в простыне и одеяле. Гаускнехт исполнил приказание поэта с таким усердием, что не оставил ему даже во что одеться. Но Гоголь, кажется, был доволен своим положением и целый день принимал гостей в своей пестрой мантии, до тех пор, пока знакомые собрали для него полный костюм и дали ему возможность уехать из Франкфурта.
П. А. Кулиш со слов гр. А. К. Толстого. Записки о жизни Гоголя, I, 233.
До Остенде я добрался благополучно. На другой день после дороги почувствовал себя даже хорошо, потом опять похуже. Сегодня, однако же, взял первую баню. Как пойдет дело, бог весть. Покамест трудность страшная бороться с холодом воды. Больше одной минуты я не мог высидеть, и ноги сделались холодны на весь день, так что с трудом мог их согреть, хотя ходил много. В Остенде никого, и, покамест, довольно скучно.
Гоголь – В. А. Жуковскому, 30 июля 1844 г., из Остенде. Письма, II, 465.
Я уже начал купаться и понемногу как будто бы стал поправляться.
Гоголь – В. А. Жуковскому, 8 авг. 1844 г., из Остенде. Письма, II, 466.
Я, кажется, начинаю чувствовать пользу от купанья; впрочем, настоящее действие оного, говорят, ощущается потом. Еще две недели мне остается продолжать купанье, а после этого времени я уже надеюсь засесть с вами во Франкфурте солидным образом за работу.
Гоголь – В. А. Жуковскому, 1 сент. 1844 г., из Остенде. Письма, II, 472.
Гоголь любил уединенные прогулки, и его видали каждый день, в известные часы, в черном пальто и в серой шляпе, бродящим взад и вперед по морской плотине, с наружным выражением глубокой грусти. Но только для людей, знавших его издали, он казался в Остенде несчастным ипохондриком, вечно одиноким и задумчивым. Один из его друзей 6 ноября 1844 г. писал ему из Парижа: «В Остенде вы нас и всех оживляли своею бодростью».
П. А. Кулиш, II, 17.
…добрый, необходимый, но немного грустный посетитель в Остенде.
Графиня С. М. Соллогуб – Гоголю. Вестн. Евр., 1889, № 11, 117.
Море северное производило на меня то, чего я никогда не чувствовал, купаясь в южном. Кожа после него горит, и чуть выйдешь из воды, как сделается уже жарко, как в бане. В воде сидеть не более пяти минут, чем меньше, тем лучше. Чем хуже погода, чем холоднее, чем сильнее ветры и буря, тем лучше, и выходишь из воды черту не брат. Я даже, который боялся прикосновения холодной воды и вооружен фуфайкою непосредственно на самом теле, отважился весьма храбро, и только жалею о том, что удалось мне мало купаться и не выполнить весь назначенный курс.
Гоголь – Н. М. Языкову. Письма, II, 508.
Наверху у меня гнездится Гоголь; он обрабатывает свои «Мертвые души».
В. А. Жуковский – А. И. Тургеневу, в окт. 1844 г., из Франкфурта. Соч. Жуковского, изд. 7-е, VI, 420.
Нынешнюю зиму остаюсь во Франкфурте и живу по-прежнему в доме Жуковского.
Гоголь – А. О. Смирновой, 24 окт. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 494.
Наконец захотелось тебе послушать правды. Изволь, попотчую… Что такое ты? Как человек, существо скрытное, эгоистическое, надменное, недоверчивое и всем жертвующее для славы. Как друг, что ты такое? И могут ли быть у тебя друзья? Если бы они были, давно высказали бы тебе то, что ты читаешь теперь от меня… Твои друзья двоякие: одни искренно любят тебя за талант и ничего еще не читывали во глубине души твоей. Таков Жуковский, таковы Балабины, Смирнова и таков был Пушкин. Другие твои друзья московская братия. Это раскольники, обрадовавшиеся, что удалось им гениального человека, напоив его допьяна в великой своей харчевне настоем лести, приобщить к своему скиту. Они не только раскольники, ненавидящие истину и просвещение, но и промышленники, погрязшие в постройке домов, в покупках деревень и в разведении садов. Им-то веруешь ты, судя обо всем по фразам, а не по жизни и не по действиям. На них-то сменил ты меня, когда вместо безмолвного участия и чистой любви раздались около тебя высокопарные восклицания и приторные публикации. Ко мне заезжал ты, как на станцию, а к ним, как в свой дом. – Но посмотрим, что ты как литератор. Человек, одаренный гениальной способностью к творчеству, инстинктивно угадывающий тайны языка, тайны самого искусства, первый нашего века комик по взгляду на человека и природу, по таланту вызывать из них лучшие комические образы и положения, но писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка и все сокровища искусства, неправильный до безвкусия и напыщенный до смешного, когда своевольство перенесет тебя из комизма в серьезное. Ты только гений-самоучка, поражающий творчеством своим и заставляющий жалеть о своей безграмотности и невежестве в области искусства.
П. А. Плетнев – Гоголю, 27 окт. 1844 г., из Петербурга. Рус. Вестн., 1890, № 11, стр. 34.
Молитесь за Россию, за всех тех, которым нужны ваши молитвы, и за меня, грешную, вас много, много и с живою благодарностью любящую. Вы мне сделали жизнь легкую; она у меня лежала тирольской фурой на плечах. А признаться ли вам в своих грехах? Я совсем не молюсь, кроме воскресения. Вы скажите мне, очень ли это дурно, потому что я, впрочем, непрестанно, иногда свободно, иногда усиленно, – себя привожу к богу. Я с ленцой; поутру проснусь поздно, и тотчас начинается житейская суета хозяйственная… Вы знаете сердца хорошо; загляните поглубже в мое и скажите, не гнездится ли где-нибудь какая-нибудь подлость под личиною доброго дела и чувства? Я вам известна во всей своей черноте, и можете ли вы придумать, что точно так скоро сделалась благодатная перемена во мне, или я только себя обманываю, или приятель так меня ослепил, что я не вижу ничего и радуюсь сердцем призраку? Эта мысль иногда меня пугает в лучшие минуты жизни… Вы одни доискиваться умеете до души без слов… Я еще все-таки на самой низкой ступеньке стою, и вам еще не скоро меня оставлять. Напротив, вы более, чем когда-либо, мне нужны.
А. О. Смирнова – Гоголю, 26 ноября 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., 1888, окт., 137.
Мне скучно и грустно. Скучно оттого, что нет ни одной души, с которой бы я могла вслух думать и чувствовать, как с вами; скучно потому, что я привыкла иметь при себе Николая Васильевича, а что здесь нет такого человека, да вряд ли и в жизни найдешь другого Николая Васильевича… Душа у меня обливается каким-то равнодушием и холодом, тогда как до сих пор она была облита какою-то теплотою от вас и вашей дружбы. Пожалуйста, пишите мне. Мне нужны ваши письма.
А. О. Смирнова – Гоголю, 12 дек. 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., 1888, окт., 140.
Поговорим еще раз, и уже в последний, о моих делах прозаических, по поводу собрания моих сочинений, путаниц от этого и прочее… Виноват во всем я; я произвел всю эту путаницу и ералаш; я смутил и взбаламутил всех, произвел на всех до едина чувство неудовольствия и, что всего хуже, поставил в неприятные положения людей, которые без того не имели бы, может быть, никогда друг против друга никаких неудовольствий. Виноватый должен быть наказан, и лучше наказать самому себя, чем ожидать наказания божьего. Я наказываю себя лишеньем денег, следуемых мне за выручку собрания моих сочинений. Лишенье это, впрочем, мне не стоит никакого пожертвования, потому что я не был бы спокоен, если бы употребил эти деньги в свою пользу. Всякий рубль и копейка этих денег куплены неудовольствием, огорчениями и оскорблением многих; они бы тяготели на душе моей; а потому должны быть употреблены все на святое дело. Все деньги, вырученные за них, отныне принадлежат бедным, но достойным студентам; достаться они должны им не даром, но за труд. Что признаешь полезным ныне для всех перевесть на русский язык, заставь перевести; найдешь нужным задать собственное сочинение, задай… Дело это должно остаться только между тобою и С. Т. Аксаковым, и я требую в этом клятвенного и честного слова от вас обоих. Никогда получивший деньги не должен узнать, от кого он их получил, ни при жизни моей, ни по смерти моей. Это должно остаться тайной навсегда. Желанье мое непреложно. Только таким образом, а не другим должно быть решено это дело. Как бы ни показалось вам многое здесь странным, вы должны помнить только, что воля друга должна быть священна, и на это мое требование, которое с тем вместе есть и моленье, и желанье, вы должны ответить только одним словом да. То же самое сделано и в Петербурге. Там почти все экземпляры распроданы, и деньги собраны; но я из них не беру ничего, и они все обращаются на такое же дело, с такими же условиями, и вверяются также двум: Плетневу и Прокоповичу. Но ни вы им, ни они вам никогда не должны об этом напоминать. А вас молю именем дружбы, именем бога истребить в себе всякое неудовольствие, какое только у вас осталось к кому бы то ни было по поводу этого дела. Мне вы должны простить также все, чем оскорбил.
Вы обо мне не заботьтесь. В течение почти двух лет я не буду иметь никакой надобности в деньгах. Во-первых, мы устроились кое-как с Жуковским, а во-вторых, мне теперь гораздо нужно меньше, чем когда-либо прежде. Посему, если ты не посылал еще мне тех денег, о которых извещал в письме, то и не посылай, а отложи их к деньгам на дело святое. Ни Аксакову, ни Языкову не плати. Они мне подождут: так нужно.
Гоголь – С. П. Шевыреву, 14 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 536–539.
(Подобное же письмо от Гоголя получил в Петербурге Плетнев.) Вчера утром пришел ко мне Плетнев с вашим письмом. Не пеняйте на него за то, что он потребовал нужду показать мне ваше письмо. Плетневу нужно было со мною переговорить, чтоб решить недоумение на многие слова ваши. Потому не сердитесь на него, а, напротив, сознайтесь, что он поступил благоразумно… У вас на руках старая мать и сестры. Хотя вы думали, что обеспечили их состояние, но что ж делать, если, по неблагоразумию или каким-либо непредвиденным обстоятельствам, они опять у вас лежат на плечах. Дело ваше, прежде всего, при получении отчета Прокоповича, сперва и не помышляя ни о какой помощи бедным студентам, выручить ее из стесненных обстоятельств. И потому мы решили с Плетневым, что так и поступим, если точно есть какие-нибудь деньги у Прокоповича. А до московских нам никакого дела нет; так пусть делают, как хотят… Знаете ли, что св. Франциск Саль говорит: «Мы часто тешимся тем, чтобы быть хорошими ангелами, и забываем, что раньше нужно стать хорошими людьми»[47 - Распоряжение Гоголя вызвало также протест и недоумение у его московских друзей. Шевырев на распоряжение Гоголя отозвался только через девять месяцев таким письмом: «На твое большое письмо я не отвечал. Ты требовал решительного да на твое предложение. Я не мог тебе уступить насильно это да и вот почему не отвечал. Предложение твое о сумме, собираемой с твоих сочинений, не могло быть исполнено по двум причинам. Первая – ты должен еще Аксакову. Я знаю, что Аксаковы нуждаются. Они даже на зиму переселились в деревню по этой причине. Мне казалось несправедливым потреблять твои деньги на бедных студентов, когда еще не уплачен тобою долг человеку нуждающемуся. Языков – другое дело, конечно, подождет. О другой причине я говорить теперь не стану, потому, что лишнее, а поговорю с тобой тогда, когда уничтожится первая… Я не могу принять на себя исполнение такого дела, которое мне кажется противным справедливости». (Отчет имп. Публ. библиотеки за 1893 г., прилож., стр. 20.)].
А. О. Смирнова – Гоголю, 18 дек. 1844 г., из Петербурга. Рус. Стар., окт., 141.
Граф (А. П.) Толстой сказал мне, что он приглашает вас в Париж, и показал мне назначенную для вас квартиру. Прекрасная комната на улице, в Rue de la Paix, на солнце, с печкой и особенным выходом в коридор, одним словом, весьма удобная для автора и даже для отшельника.
Графиня Л. К… Виельгорская – Гоголю, 23 дек. 1844 г., из Парижа. Шенрок, IV, 928.
Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Я сам не знаю, какая у меня душа. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны пополнить одна другую.
Так как вы уже несколько раз напоминаете мне о деньгах, то я решаюсь наконец попросить у вас. Если вам так приятно обязать меня и помочь мне, то я прибегну к займу их у вас. Мне нужно будет от трех до шести тысяч в будущем году. Если можете, то пришлите на три вексель во Франкфурт. А другие три тысячи в конце 1845 года. А может быть, я обойдусь тогда и без них, если как-нибудь изворочусь иначе. Но знайте, что раньше двух лет вряд ли я вам отдам их назад. Об этом не сказывайте никому, особенно Плетневу.
Вы спрашиваете, каково мне во Франкфурте. Я и не замечаю, что я живу во Франкфурте: живу я там, где живут близкие мне люди, а наиболее живу в работе, отчасти в письмах, отчасти во внутренней собственной работе… С Жуковским мы ладим хорошо и никак не мешаем друг другу; каждый занят своим. С Елис. Евграфовной (жена Жуковского) тоже ладим хорошо, и, что лучше всего, ни ей нет во мне большой потребности, ни мне в ней. А это мне теперь слишком хорошо, потому что моя семья становится, чем дальше, больше, и я не успеваю отвечать даже на самые нужные письма.
Гоголь – А. О. Смирновой, 24 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 577–579.
Извини, что доселе не уплачиваю тебе занятого долга. Сему виною не какое-либо небрежение, неаккуратность и неисправность, а единственно неимущество: я же знаю, что ты милостив к должникам своим и потерпишь им.
Гоголь – Н. М. Языкову, 26 дек. 1844 г., из Франкфурта. Письма, II, 585.
Плетнев поступил нехорошо, потому что рассказал то, в чем требовалось тайны во имя дружбы; вы поступили нехорошо, потому что согласились выслушать то, чего вам не следовало. Вы взяли даже на себя отвагу перерешить все дело и приступаете по этому поводу к нужным распоряжениям, позабывши, между прочим, то, что это дело было послано не на усмотрение, не на совещание, не на скрепление и подписание, но, как решенное, послано было на исполнение, и во имя всего святого, во имя дружбы молилось его исполнить… Оставим эти деньги на то, на что они определены. Эти деньги выстраданные и святые, и грешно их употреблять на что-либо другое. И если бы добрая мать моя узнала, с какими душевными страданиями для ее сына соединилось все это дело, то не коснулась бы ее рука ни одной копейки из этих денег, напротив, продала бы из своего собственного состояния и приложила бы от себя еще к ним. А потому и вы не касайтесь к ним с намерением употребить их на какое-нибудь другое употребление, как бы благоразумно оно вам ни показалось. Да и что толковать об этом долго: обет, который дается богу, соединяется всегда с пожертвованием и всегда в ущерб или себе, или родным, но ни сам дающий его, ни родные не восстают против такого дела. А потому я не думаю, чтобы вы или Плетнев вооружили бы себя уполномочием разрешить меня от моего обета и взять на свою душу всю ответственность. Но довольно. Еще раз молю, прошу и требую именем дружбы исполнить мою просьбу. Нечестно разглашенная тайна должна быть восстановлена. Плетнев пусть вынет из своего кармана две тысячи и пошлет моей матери, мы с ним после сочтемся. Все объяснения по этому делу со мною должны быть кончены. Вы также должны отступиться от этого дела; мне неприятно, что вы в него вмешались. Все должно кончиться между Плетневым и Прокоповичем.