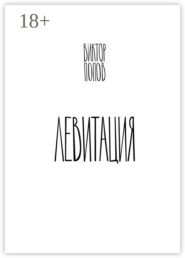По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Нет
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, это ваши проблемы. Я-то здесь при чем?
– То есть, по-вашему, это нормально?
Большой вновь указал на окно.
– Нет.
– Вы врач?
– Да.
– Так лечите!
– От чего? От П.?
Вопрос завис в воздухе и так там бы остался, если бы на порог КПП не вышел виновник всеобщего беспокойства. Владимир Семенович невольно прищурился – солнце к полудню вышло из-за облаков – и даже чихнул, обратив этим на себя внимание окружающих. Будайкин поочередно одарил улыбкой каждого из куривших, и прежде чем без остатка впасть в безудержно-счастливый смех, удовлетворенно констатировал:
– А вы знаете, П. все-таки есть. Только не здесь. Не в этой жизни. Он там. Он будет после всего. После всех. Нам всем осталось недолго его ждать. Мы подождем? Мы подождем. Мы подождем…
Владимир Семенович проснулся перед рассветом. От лошадиной дозы корвалола, которой вчера оборвали его смех, болела голова, руки и ноги казались чужими, и как-то неуютно, нет – не болело, но екало под левым соском. Владимир Семенович провел глазами по главной трещине на потолке и в самом конце ее, как и накануне, будто по команде, залаял Веня. И Будайкин понял – П. не появился. Его по-прежнему не было: ни вчера, ни сейчас…
Дослушав до конца Веню, который был привычно в два-три лая краток, Будайкин, помня бесперспективность смены положений тела, сразу встал. Получилось это с трудом: вчерашние 60 капель в движении еще больше, чем в покое давали о себе знать.
И первое, что Владимир Семенович сделал, после того как умылся, – это принял решение о судьбе пузырька, неосмотрительно оставленного Сережей Большим прямо на кухонном столе. Будайкин вылил его в мойку. Именно вылил, а не сцедил по каплям, для чего вырвал зубами колпачок, с отвращением уловив ртом приторный полынный привкус.
Звук упавшего в ведро пузырька, возможно, стал главной причиной пробуждения Вени, все больше спавшего в последнее время. Свой контрольный лай Веня приловчился выдавать прямо во сне, не просыпаясь, как некую неизменную, заученную обязанность. Схожим приемом «вениного лая» пользовались и люди, охраняющие объект.
Будайкин, разумеется, об этом знал, но уличить подчиненных ему удавалось редко – они порой в последний момент открывали глаза, а уж вилять хвостом многие умели почище Вени, который и теперь, вытянув морду, преданно глядел на хозяина. Веня, как и всякий пес, тонко чувствовал, кто на объекте главный. И, Боже мой, в какой веер превращался его хвост при Сереже Большом! Но сегодня, как и вчера, Будайкину было не до Вениной, основанной на ежедневной кормежке, преданности. П. нет и не было, и шансов что-то изменить в этом вопросе оставалось с каждым часом все меньше и меньше. Мысль, укрепляясь со временем, становилась непоколебимой реальностью…
Владимир Семенович присел на одноместную скамеечку у кучи песка – другие, он знал об этом, в шутку называли ее троном – и сам обняв себя, чтобы согреться, уставился на севшего напротив Веню. Будайкин в который раз присмотрелся к его дворняжьей морде, пытаясь найти в ней хоть какие-то очертания породы, и в очередной раз потерпел поражение. Будайкин понял, что для Вени П. тоже нет и не было, даже еще больше, чем для него. У пса и мысли такой не возникало. Хотя даже трудно представить себе, как бы он вертел хвостом в его, П., присутствии, если бы П. все-таки был…
При последней мысли, представив себе вдруг оторвавшийся в восторге от Вениного тела хвост, Будайкин невольно улыбнулся Вене, и пес, дернув мокрым носом в ответ, подошел ближе. Будайкин почуял тяжелый псиный запах, пробивавшийся порой в вагончик из-под пола, где пес время от времени обосновывался. Веню гнали прочь, в его будку на въезде, но он возвращался, переждав день-два, и его, конечно, прощали, чтобы в какой-то день выгнать снова. Теперь этот запах не показался Будайкину отталкивающим, в нем почудилась какая-то иная жизнь, простая и ясная, выстроенная на еде, сне и редком лае, лишенная преследовавшей Владимира Семеновича со вчерашнего дня мысли, от которой некуда было деться. Будайкин позавидовал Вене, но не смог представить себя собакой. Он потрепал пса за ухо и, взяв лежавшую рядом со скамеечкой палку, бросил ее к забору. Веня послушно принес ее. Будайкин бросил палку снова, и Веня повторил свой маршрут. Он делал это, как и всегда, без особого азарта, очень деловито и не спеша. Казалось, если бы пес мог думать, то он не побежал бы и в первый раз, но заученный рефлекс не давал ему такого шанса. И даже когда пес все-таки устал и остановился, Владимиру Семеновичу казалось, что тот продолжает бегать, и вот Будайкин уже сам бросал палку и сам же бежал за ней и приносил ее в зубах, совершенно не осознавая своих действий. Не заметил он и вставшего на свою смену Сережу Маленького, и пришедшего отсыпаться «третьего», и облаянного Веней незнакомого ему «четвертого». Но и они проходили мимо, не задерживаясь, не глядя на Будайкина и ничего ему не говоря. Молчание их легко было понять. Владимира Семеновича Будайкина, как и пса по кличке Веня, на этом объекте не было, ни по каким-нибудь спискам, ни в чьей-либо памяти, не было ни вчера, ни сегодня, никогда…
Постоянник
Мой постоянный гость по прозвищу Тихий умер на День народного единства, утром, во сне, подобно звезде рок-н-ролла, захлебнувшись собственной рвотой. Его нашли на скамейке, на соседнем с нашим переулком бульваре, который каждый вечер был набит соответствующей публикой: неформалами всех мастей, тут же одномастно много выпивающих и играющих на всех возможных музыкальных и близких к ним инструментах. Понятно, что до тех пор, пока друг Тихого, провожавший его и заснувший в ближайших кустах, не проснулся и не стал будить товарища, никто ничего и не заметил. А случилось все это на почве трех «писко», трех «лонг-айлендов», двенадцати «шотов», путанного содержания и обязательной начальной порции «Камю Бордери»[1 - «Писко» – разновидность виноградной водки. «Лонг-айленд» – коктейль на основе водки, джина, текилы и рома. «Камю Бордери» – коньяк, производимый коньячным домом Camus.]. Это я знал точно. Я хранил его чеки. В последнее время Тихий зачем-то всегда меня об этом просил. Еще, помню, я рассыпал в ту ночь банку сахарной пудры. Она словно иней покрывала мои руки, когда я прощался с Тихим – как оказалось, навсегда. И не то чтобы я чувствовал себя виноватым, нет. Он сам все для себя решил, но все-таки именно мои руки – и ничьи иные – подали ему той ночью все выше перечисленное. Я знал его два года, и то, что он сделал в свой последний вечер, по совести говоря, он делал очень часто. Но, видно, всему есть свой предел: однажды человек просто засыпает на спине, а не на боку и, наконец, случается то, что и должно было когда-то случиться…
Особенно я не понимал – это при его-то средствах и разборчивости в алкоголе – его любовь к «лонгам», этому дремучему пойлу для околобарного быдла. Но и это был его почти каждодневный выбор. Он понимал суть «лонга» – нажраться как можно быстрее. Но никак не стремясь к указанным темпам (Тихий как раз любил делать это как можно дольше), тем не менее, пил его каждый день. Чаще один или два, не семь, конечно. Пил с явным и нескрываемым отвращением, пил его, как некую дань Алкоголю, которому был предан, как выяснилось, без остатка, отдав ему всецело не только свою жизнь, но и смерть.
Когда я вспоминал наше знакомство, мне на ум приходила клетчатая рубашка Тихого, бесследно растворившаяся после того вечера. Он никогда больше в ней не появлялся. Ее мелкая синяя клетка отчего-то меня раздражала. Так что после пяти «лонгов», в ответ на быдляче-пацанскую просьбу сделать «что-нибудь», я подал ему стакан молока, который он выпил с невозмутимой и какой-то аристократической покорностью. И это при том, что молока, как и прочих молочных продуктов, он не употреблял вовсе, по причине предельной непереносимости. Об этом я узнал позже. Тогда же Тихий подал мне руку и представился, не оставив вариантов для отказа – он был первым, кто в подобной ситуации выпил этот стакан. Про это молоко Тихий потом часто вспоминал. А в тот вечер он, заказав после молока «Маргариту»[2 - Маргарита – коктейль на основе текилы, сока лимона, цитрусового ликера и льда.] не сказал мне до утра больше ни слова, не считая названий напитков. Когда он уходил после завтрака – Тихий ко всему прочему любил овсяную кашу с сухофруктами – я подумал, что он больше никогда не придет. Но он пришел спустя четыре дня, в среду. Сев за стойку, Тихий прикрыл собой картину тотальной безысходности: за столом у окна две толстых дамы под сорок в полном одиночестве в три часа дня пили водку из графина и запивали ее томатным соком. Тихий просто, как давний знакомый, протянул мне руку и сказал:
– Сделай «Мэри»[3 - «Кровавая Мэри» – коктейль, в состав которого входят водка томатный и лимонный сок, специи.]. А то с твоего молочка херовато чего-то…
Как выяснилось, он четыре дня спускался с субботы будто на парашюте, уменьшая дозы и крепость. Но теперь настала среда, и ему предстоял обратный путь. Я молча кивнул, и про себя назвал его почему-то «Тихим». Не знаю почему. Так, залетело слово. Сказал ему об этом в очередную субботу. Тихий напивался не как все: с пятницы на субботу. Напротив, он делал это исключительно – если не считать редких будних дней – с субботы на воскресенье. Против прозвища он не возражал. Хотя «кликухи» не любил и называл меня просто – Костян, а не как все – Буга (от фамилии Бугаев). Других не отучивал. Но сам не называл. И в этом был он весь: если ему что-то не нравилось, он это принимал, принимал как есть, принимал как часть целого, потому, видимо, и пил ненавидимые им «лонги», смеясь над теми, кто их заказывал, смеясь над собой…
О смерти Тихого мне сообщил его друг, бывший с ним в тот вечер. Этот друг, собственно говоря, и привел Тихого к нам в первый раз. И был с ним в последний. Я и не требовал от него отчета и покаяния – он-то в чем виноват? – но получил и то, и другое сполна. Потом он ушел встречать родных Тихого. Они жили в каком-то другом городе. Было четыре часа дня. Они как раз должны были подъехать. Морг был где-то по соседству. Я проводил его взглядом и вспомнил, что той ночью ушел в час, чтобы выйти на смену в девять. Тихий уходил со мной, он собирался куда-то еще, но друг утащил его как будто бы спать. У него «хата» где-то на бульваре. На тот момент он был, безусловно, прав – Тихий едва-едва стоял на ногах. Но вот как вышло. Они не дошли. Еще, просто не надо спать на спине. И много пить. И будешь жить долго и счастливо. Зря. Но долго и счастливо…
В начале пятого толстый старик в очках остановился на входе. Слегка осмотревшись, он направился в мою сторону. Таких, как он, древних, к нам обычно не пускают, чтобы не пугать молодежь. Они, впрочем, и сами редко заходят. Но охранник обедал – воскресенье, день – можно себе это позволить. И опять же день, никого нет, пусть идет, не велика беда. Старик с трудом забрался на стул и обвел взглядом бар. Я заученно положил перед ним меню и карту, но сразу понял, что допустил ошибку – старик отодвинул их в сторону, не глядя, и с минуту рассматривал бутылки одну за другой. Я бы не обратил на него внимания, если бы не его рубашка. Она была в такую же мелкую синюю клетку, что и та самая рубашка Тихого. Размеров на пять больше – Тихий при всем своем образе жизни до последнего дня был худым, без какого-либо намека на животик среднего возраста – но абсолютно та же по цвету и рисунку. Старик, поймав мой взгляд, улыбнулся и спросил:
– Футбол будет?
– Скажете – включим. Когда?
– В три.
– Час еще. Я скажу. Что будете пить?
Он взял паузу. В такие моменты решалась судьба гостя. Решалось его место в реестре избранных. Первое впечатление на то и первое, чтобы остаться таковым навсегда. Но старик – под футбол я привычно ждал пива – направился совсем в другую сторону:
– Я, вот, Костя, думаю о «Камю Бордери»… Но вот футбол смущает…
Я поднял брови. Я видел старика в первый раз, а он назвал меня по имени, что вполне можно был списать на бейджик, но надпись там была мелковата для его очков, и он не посмотрел на него, я точно это помню. Но смутило меня и другое: последнее, что выпил Тихий в свою последнюю ночь, – это был именно «Камю». И именно «Бордери». Впрочем, другого «Камю» – за это Паша всегда недовольно цеплялся – у нас и не было. Я невольно оглянулся – бутылка «Камю» была на своем месте, где я вчера ее и оставил. Этот коньяк пил только Тихий. Коньяк у нас вообще мало кто пил. Легко запомнить. Старик вывел меня из задумчивости:
– Так что, сочетается с футболом или как?
Я не то чтобы смешался, но не нашел сразу, что ответить, а когда собрался, гость неожиданно съязвил:
– Хочешь сказать, хорошее со всем сочетается?
Я чуть дернулся, но сдержался и только кивнул в ответ. Старик пил медленно, почти не делая глотков, будто растворяя коньяк на губах и во рту. На порцию у него ушел час: она закончилась только под самый футбол. Он терпеливо выслушал составы команд и только тогда заказал вторую, которую пил, как мне показалось, еще медленней. В какой-то момент я даже засомневался, что он вообще пьет, то есть, что алкоголь вообще попадает в него. Мне показалось, что он, едва коснувшись губ старика, тут же растворяется, но не идет внутрь. К третьей порции мое мнение – я точно помню, их было три – еще более упрочилось: старик выглядел так, будто и не пил вовсе. Когда я подал ему чек – его команда выиграла, и старик выглядел очень довольным – он расплатился и молча подал мне руку на прощание. Он ушел, и только в этот момент я обратил внимание, что коньяка в бутылке ничуть не убавилось. Тогда я посмотрел на чек. Он был пуст. Там не было ни одной позиции. Ни одной! Но их же было три! Я точно это помнил. Объем бутылки и чек доказывали обратное. Единственным же доказательством моей правды были чаевые: их количество соотносилось с стоимостью трех порций. Но, может быть, старик ошибся? Или все-таки, погруженный в свои невеселые мысли, ошибся я?
На похороны Тихого спустя пару дней я не поехал. Работал. Да и кто я ему был? Мое участие в его жизни (и тем более – в смерти), конечно, было весомым, но вряд ли достойным того, чтобы я был одним из тех, кто провожал его по дороге к большинству. Друг Паши, как водится, напился в тот вечер. Пришлось оставить его на складе и то и дело проверять, не перевернулся ли он на спину, но в конце концов он ушел после завтрака своим ходом. Сразу после того опять появился старик. Моя смена закончилась. Но я остался, как будто на завтрак. На самом деле я сел за стойку рядом с гостем, чтобы понять, что происходит, как и что он пьет, и пьет ли вообще. Он узнал меня и подал руку:
– Как?
– Нормуль. У вас?
– Живой.
– И то хорошо.
– И то.
К моему разочарованию, он заказал овсяную кашу с сушеными бананами и чай. Я ел яичницу и поглядывал на него, и после чая мои ожидания оправдались. Он заказал «Камю». Наблюдая, как он его пьет, я опять заметил, что горло его не движется, глотков нет, коньяк куда-то бесследно исчезает, ведь даже губы его остались сухими к исходу бокала и, клянусь, он не вытирал их салфеткой. Когда старик ушел, я, выждав паузу, направился к выходу, но, остановившись у дверей, вернулся и осмотрел чек, оставленный им на столе вместе с чаевыми. В нем опять не было ничего! Я подошел к Никите, моему сменщику в то утро:
– Ты не пробил ему «Камю».
Он покачал головой и отвернулся. Никита вообще отличался «разговорчивостью». Я по-своему понял его ответ:
– Как «он не заказывал»? Я рядом сидел. Он его пил.
Он поднял на свет слегка початую бутылку. Другой на стене не было. Но что же я тогда видел? Кто он такой, этот старик, и что со мной происходит? Я взял выходной за свой счет, но выспаться не получилось – Тихий и дед не выходили у меня из головы. В итоге я напился. Просто до чертиков напился портвейном, сидя у телевизора, но когда вышел на смену, первое, что я сделал, – это проверил бутылку «Камю». За прошедшие два дня она никому не понадобилась. Я стал ждать. И ожидание было недолгим…
Старик пришел во все той же клетчатой рубашке – да, забыл сказать, что и за тем завтраком он тоже был в ней – и во все тех же очках. Сменились брюки, часы и даже, кажется, бумажник, но не рубашка и очки. В это его посещение я обратил внимание и на то, как бодро он перемещался по бару, невзирая на свой вес. Да, на стул он забирался не без труда, но тому были объективные причины – их высота. Но во всем остальном ни отдышки, ни кряхтения. Он был бодрячок, бодрячком, что никак не вязалось с его «стошкой», не меньше. Он не потел и не краснел после выпитого, и я ни разу не видел, чтобы он вышел в туалет.
Пил он на этот раз «шоты». Пару легких ликерных смесей. А запил все, как водится, «Камю». Я не отпускал бутылку от себя и четко пробил обе порции. Но в чеке коньяка, как и всегда, не оказалось и в бутылке напитка не убавилось ни на каплю. Хмуро наблюдая за уходом старика, я мучительно соображал, в какой момент я опять отпустил ситуацию – и снова ничего не понял. У самых дверей старик обернулся и поднял руку в знак приветствия, я ответил тем же, и только тут заметил, что старик пришел в бар босым. Не в носках или тапках – такие случаи с местными бывали – а именно с босыми ногами. В ноябре! В дни первых дневных заморозков. Так, я отчаянно и везде замерзал в эти дни – мне все время и как-то беспричинно было холодно. Еще более необъяснимым было то, что охранник Николай – простой и серьезный парень из пригорода – пропустил старика. На мой вопрос, почему он пускает людей без обуви, Николай в ответ только посмотрел на меня (точнее, как-то сквозь меня) как на идиота и не счел нужным отвечать вообще, и я понял, что для него старик был в обуви и никак не босым. Я вернулся за стойку и еще раз осмотрел бутылку. С ней все было нормально. Я пробил на свой счет сок. И касса работала, как ей было положено. Только вот бокал, из которого пил старик, сохранил пару капель коньяка, которого, судя по бутылке и кассе, туда никто не наливал, но ведь что-то старик пил? Я взял бокал и внимательно осмотрел его. Что-то меня насторожило, но я не сразу понял, что. Я вспомнил, как его держал старик. Сначала он поднял его за ножку, но потом, потом на второй порции, он взялся за бока. Я присмотрелся. На стенках не было никаких отпечатков ни внутри, ни снаружи. На дне имелась пара капель (судя по запаху – коньяка), но не было никаких следов ни от пальцев снаружи, ни от жидкости внутри. Этот бокал как бы никто не держал, и ничего из него не пил. Он был чист и абсолютно прозрачен. Старик к нему как бы и не прикасался вовсе. Он вообще непонятно зачем оказался на стойке, и только злополучная пара капель на дне выводила все из равновесия. Я взял бокал и ушел от камер в «мертвую» зону. Долгим, протяжным движением я допил остатки. Он самый. «Бордери». С этим единственным, странным шоколадно-фиалковым ароматом. Я вернулся за стойку и вдруг увидел старика в окне. Он с кем-то разговаривал. Этот кто-то в черном костюме стоял ко мне спиной, но очертания силуэта мне показались очень знакомыми. Только когда старик положил собеседнику руку на плечо и они пошли вдоль окон в сторону входа, я узнал друга Тихого. Почти сразу после того, как идущие исчезли в последнем окне, друг Тихого вошел в бар и по обычаю уселся за стойкой. По виду он был еще в трауре. Пить не стал. Взял обед и двойной эспрессо.
– Как вообще?