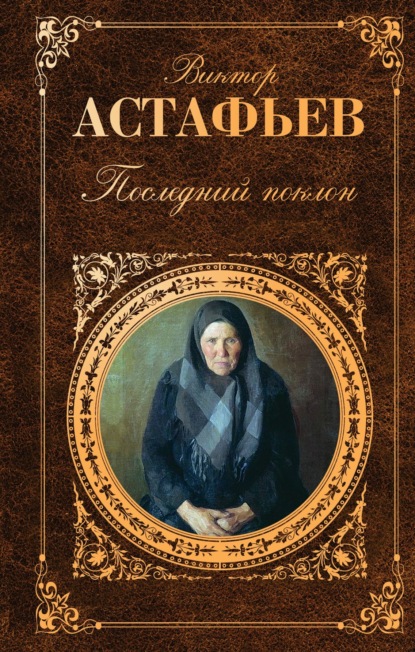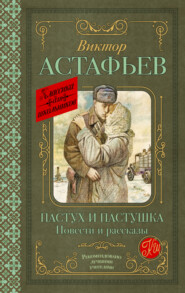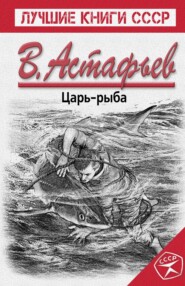По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний поклон
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Внезапно одного голошеего гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло ко льду, свалило на бок, и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда.
Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что коробило спины.
– Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, – сказал мой двоюродный брат Кеша.
– А как?
Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай – мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся – ищи-свищи.
И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали – подбираться к полынье ползком. Другие – держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать – гуси сами выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.
Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом – выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавлялись и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья – бадоги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на известке», какие-то уполномоченные грамотеи «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой известкой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частника, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбитая из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается – продает частник-шкуродер, тут предприятие – вот им-то, предприятием, не продается, а отпускается продукция Овсянского из-го з-да. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отсчет вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу…», «От нашего ларька в гору подымесся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тиятр недалеко…»
Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишка Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленья – бадоги. Вообще-то он был, конечно. Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе – Мишка и Мишка. Он нарядно и даже модно одевался, пил вино не пьянея, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем, слух шел – шибко портил девок. Как можно испортить живого человека – я узнал не сразу, думал, что Мишка их заколдовывает и они помешанные делаются, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины – однажды этот самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой – отчаянная головушка!
– Что за шум, а драки нету? – спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. В его черных глазах искрились удаль и смех, на носу и на груди блестел пот, весь он был в пленках бересты, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы.
Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею в ноготь – после получки дня три-четыре Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбору, все остальное время стрелял курево – прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил:
– Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь.
Нам сразу стало легче. Мишка сообразит! Докурив папироску, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.
– Всем взять по длинной доске!
– Ну, конечно же, конечно! – ликовали парнишки. – Как это мы не догадались?
И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припою. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.
Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску – он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед.
– Стоп! – скомандовал Мишка. – Теперь надо одному. Кто тут полегче? – Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. – Сымай шубенку! – я покорно расстегивал пуговицы, мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустился на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая, а под горячим-то трещит лед, а подо льдом: «Господи! Миленький! Спаси и помилуй люди Твоя… – пытался я вспомнить бабушкину молитву… – Даруя… сохраняя крестом Твоим… Даруя… сохраняя… достояние…» – заклинал и молил я.
– Гусаньки, гусаньки! – звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня закрайку полыньи, встревоженно погагакивая. – Гусаньки, гусаньки… – не в силах двинугься дальше – лед с тонким перезвоном оседал подо мной, под доской, беленькие молнии метались по нему, пронзая уши, лопнувшей струной.
– Гусаньки, гусаньки! – плакал я.
Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядели на меня. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока, я обмер и, подумав, что обломился лед, уцепился за доску и собрался уже заорать, как услышал:
– Держи! Держи! – Мишка приблизился, доску мне сует.
Доска доползла до воды, чуть прогнула закраек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ:
– Гусаньки, гусаньки… Господи… достояние Твое есмь… Мать-гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.
– Ну, вылезай, вылезай! – закричали ребятишки.
– Ша! Мелочь! – гаркнул Мишка.
Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала: «Делать так же!»
– Ах ты, умница! Ах, ты умница!
Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на тесину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи.
– Гусаньки, гусаньки!
Уже на крепком льду я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое, холодное перо.
Ребята согнали гусей в табунок, подхватили кто которого и помчались в деревню.
– Не забудьте покорми-ыть! – кричал вслед нам Мишка. – Да в тепло их, в тепло, намерзлись, шипуны полоротые.
Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь. махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст баню.
Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех гусят. Тогда гусыня-мать успокоилась и поела. Левонтьевские орлы как ни стерегли гусей – вывелись они. Одних собаки потравили, других сами левонтьевские приели в голодуху. С верховьев птицу больше не приносит – выше села ныне стоит плотина самой могучей, самой передовой, самой показательной, самой… в общем, самой-самой… гидростанции.
Запах сена
По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел – глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно – еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.
Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора.
Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек – он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один – бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох – старухи объяснить не могли.
Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрещину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «Богом обижен», а мне-то наплевать! Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.
Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу – шалишь, кобыла, не тут-то было!
Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливается – весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.
Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке – что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони.
Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами – темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто…
Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброти, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.
Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.
Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброти, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу что есть мочи:
– Деда, открывай ворота!
Алешка тоже что-то блажит.
Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись – иначе сшибет надбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко останавливается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.
Дед с ухмылкой уводит лощадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?!»
Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что коробило спины.
– Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, – сказал мой двоюродный брат Кеша.
– А как?
Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай – мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся – ищи-свищи.
И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали – подбираться к полынье ползком. Другие – держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать – гуси сами выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.
Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом – выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавлялись и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья – бадоги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на известке», какие-то уполномоченные грамотеи «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой известкой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частника, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбитая из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается – продает частник-шкуродер, тут предприятие – вот им-то, предприятием, не продается, а отпускается продукция Овсянского из-го з-да. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отсчет вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу…», «От нашего ларька в гору подымесся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тиятр недалеко…»
Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишка Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленья – бадоги. Вообще-то он был, конечно. Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе – Мишка и Мишка. Он нарядно и даже модно одевался, пил вино не пьянея, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем, слух шел – шибко портил девок. Как можно испортить живого человека – я узнал не сразу, думал, что Мишка их заколдовывает и они помешанные делаются, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины – однажды этот самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой – отчаянная головушка!
– Что за шум, а драки нету? – спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. В его черных глазах искрились удаль и смех, на носу и на груди блестел пот, весь он был в пленках бересты, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы.
Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею в ноготь – после получки дня три-четыре Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбору, все остальное время стрелял курево – прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил:
– Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь.
Нам сразу стало легче. Мишка сообразит! Докурив папироску, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.
– Всем взять по длинной доске!
– Ну, конечно же, конечно! – ликовали парнишки. – Как это мы не догадались?
И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припою. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.
Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску – он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед.
– Стоп! – скомандовал Мишка. – Теперь надо одному. Кто тут полегче? – Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. – Сымай шубенку! – я покорно расстегивал пуговицы, мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустился на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая, а под горячим-то трещит лед, а подо льдом: «Господи! Миленький! Спаси и помилуй люди Твоя… – пытался я вспомнить бабушкину молитву… – Даруя… сохраняя крестом Твоим… Даруя… сохраняя… достояние…» – заклинал и молил я.
– Гусаньки, гусаньки! – звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня закрайку полыньи, встревоженно погагакивая. – Гусаньки, гусаньки… – не в силах двинугься дальше – лед с тонким перезвоном оседал подо мной, под доской, беленькие молнии метались по нему, пронзая уши, лопнувшей струной.
– Гусаньки, гусаньки! – плакал я.
Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядели на меня. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока, я обмер и, подумав, что обломился лед, уцепился за доску и собрался уже заорать, как услышал:
– Держи! Держи! – Мишка приблизился, доску мне сует.
Доска доползла до воды, чуть прогнула закраек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ:
– Гусаньки, гусаньки… Господи… достояние Твое есмь… Мать-гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.
– Ну, вылезай, вылезай! – закричали ребятишки.
– Ша! Мелочь! – гаркнул Мишка.
Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала: «Делать так же!»
– Ах ты, умница! Ах, ты умница!
Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на тесину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи.
– Гусаньки, гусаньки!
Уже на крепком льду я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое, холодное перо.
Ребята согнали гусей в табунок, подхватили кто которого и помчались в деревню.
– Не забудьте покорми-ыть! – кричал вслед нам Мишка. – Да в тепло их, в тепло, намерзлись, шипуны полоротые.
Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь. махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст баню.
Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех гусят. Тогда гусыня-мать успокоилась и поела. Левонтьевские орлы как ни стерегли гусей – вывелись они. Одних собаки потравили, других сами левонтьевские приели в голодуху. С верховьев птицу больше не приносит – выше села ныне стоит плотина самой могучей, самой передовой, самой показательной, самой… в общем, самой-самой… гидростанции.
Запах сена
По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топорищами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел – глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно – еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.
Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора.
Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек – он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один – бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светилась лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох – старухи объяснить не могли.
Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрещину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «Богом обижен», а мне-то наплевать! Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за конями идем вместе.
Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкую спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу – шалишь, кобыла, не тут-то было!
Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливается – весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.
Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке – что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони.
Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами – темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто…
Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброти, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.
Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.
Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброти, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу что есть мочи:
– Деда, открывай ворота!
Алешка тоже что-то блажит.
Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись – иначе сшибет надбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко останавливается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.
Дед с ухмылкой уводит лощадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?!»