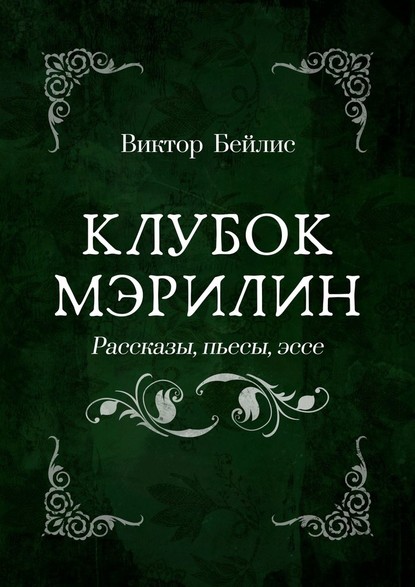По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Клубок Мэрилин. Рассказы, пьесы, эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Любопытно.
– Теперь ваша очередь, Федор Михайлович, удовлетворить и мое любопытство.
– Видите ли, Максим Менандрович, последние две ночи вы часто вскрикивали и произносили те самые слова, которые я записал, как расслышал, да вот и решил поинтересоваться. Спасибо за ценный рассказ.
– Вот оно в чем дело, – протянул Максим и задумался, невежливо забыв о Федоре Михайловиче. Последний некоторое время потоптался у окна, очевидно, желая продолжить расспросы, но, заметив, что Бахтин ушел в себя, нехотя ретировался.
– Да, да, – вспоминал Максим, – именно это я и видел; «склеенные люди». О, Господи, это я был спаян с другими в один комок. Боками я сросся с Николаем Федоровичем и Людмилой Григорьевной, голова слиплась с головой Федора Михайловича, а ноги прикрепились к Льву Николаевичу. Там были еще какие-то неузнанные люди – не помню. Вот он, этот бред и этот кошмар – релла манеринья! О, кошмар, кошмар! – передернулся Бахтин, и у него странно, как никогда прежде не бывало, заболело все тело – по контуру.
Людмила Григорьевна принесла на подносе обед.
– Сегодня после обеда разрешается небольшая прогулка, – сказала она, улыбаясь. – С дамой, – прибавила кокетливо.
Максим поблагодарил. Он в самом деле собирался пройтись немного и как раз хотел просить Людмилу Григорьевну составить ему компанию. Она взяла его под руку, и они медленно пошли к реке.
– Я слышала, как вы рассказывали Федору Михайловичу про человеческие личинки, кажется? Вам что-то привиделось? Или про это нельзя спрашивать?
– Нет, отчего же? Я только не все еще вспомнил. Но, по-моему, это был самый жуткий сон в моей жизни.
– Вот как?
– Да… Во сне я чувствовал себя нераздельным с множеством чужих мне людей. Все вместе мы являли собой копошащуюся беззащитную массу с общим и довольно темным сознанием. В моей голове пробегали какие-то мысли, наверное, все же индивидуальные, но неясные и неуловимые. Я хотел повернуться – и не мог. Потом каким-то образом высвободилась моя правая рука и через некоторое время в ней обнаружился финский нож. Просыпалось личное сознание, и я понял, что мне необходимо вырубиться из общей массы, то есть вырубиться буквально: вырезать свое тело так, как выпиливают лобзиком фигуру из середины фанерного листа. Впрочем, это неверное сравнение – лист ведь однороден, а у нас, у склеенных людей, все же были собственные формы. Мне следовало финкой бить по контуру. Я бил – и резал по живому. Справа от меня была женщина. От нее-то мне и надо было отделиться в первую очередь. Она вопила: было больно. Я тоже орал и просил у нее прощения, объясняя, что так будет лучше, что это необходимо. Мы лежали в крови, и я все бил и бил… по контуру! По контуру!
Бахтин размахивал рукой, показывая, как он Орудовал ножом, Людмила Григорьевна смотрела на него с испугом.
– Какой ужас! – говорила она. – Какой ужас!
– Да. Я помню, что тогда же, в бреду, я сумел сформулировать идею свободы и права на неслиянность и раздельность, и считаю это своей заслуге! потому что труднее всего было отделить голову, которую настойчиво проникали мысли из ближайшей чужой головы, и надо признать, что эти чужие мысли обладали почему-то властной определенностью и настойчивостью. Впрочем, эти чужие мысли я начисто забыл.
– Это был Федор Михайлович? – тихо спросила Людмила Григорьевна. – То есть, я имею в виду – чужая голова с властными мыслями. Это он? Ладно не отвечайте, я сама знаю, я и женщину отгадала.
– Да? – удивился Максим.
– Между прочим, вы действительно спите голова к голове – в изголовье у вас одна и та же стена. Что же касается его повелительности и силы… вам бы познакомиться с ним лет десять назад… Что это за человек! Что за человек!
В Бахтине проснулось любопытство, но он молчал, ожидая, что Людмила Григорьевна сама разговорится. Он не ошибся – ей, видимо, хотелось поговорить об этом.
– Этой семье всегда довлел домострой, и Федор Михайлович был в ней полновластным правителем и деспотом. Один только человек изредка осмеливался на робкий бунт, – это был старший сын – Юрий Федорович – он умер пятнадцать лет назад.
Она передернула плечами, как от холода, и задумалась.
– Умер совсем молодым и без видимой причины. Талантливый был человек, но очень печальный… Да… То есть я хотела о Федоре Михайловиче… Он ведь, знаете, ммм, он был… снохач.
– То есть?
– Снохач – так, знаете ли, называют людей, которые отбивают жену у сына… Вот… И Федор Михайлович, стало быть… Такая в нем была победительная сила, что совсем еще молоденькая тогда девочка… без оглядки… без стыда… гордо глядя в глаза людям… И Юрий Федорович… Нет, простите… Я не могу… Я, кажется, переоценила свои возможности.
Людмила Григорьевна достала платочек, вытерла глаза и высморкалась. Они уже дошли до реки и остановились.
– Вам здесь нельзя оставаться, – сказала она, – вы еще не вполне здоровы, и первая прогулка затянулась. Пойдемте обратно.
– Пойдем, – согласился Максим. Он и впрямь очень устал – от прогулки или от беседы, Бог весть.
Первое желание, которое возникло у Бахтина, едва он оправился от болезни, было приняться за статью. С ним это и прежде случалось; нездоровье загадочным образом стимулировало работу, которая, казалось, зашла в тупик. Словно бы кризис творческий преодолевался вместе с физическим и посредством последнего. Бахтин ощущал, что произошел какой-то сдвиг; какое-то смещение было и в сознании, и во взглядах, и в самой установке. Максим отчужденно пересмотрел свои листки. Все не то, не то: персонаж, оплотнение, другой, двойник, трансгредиентность, эмбрион. Эмбрион? Эмбрион! Да-да! Комок склеенных эмбрионов! Склеенные люди – релла манеринья! Вот оно, то самое! Не двойники, но сцепленные человеческие личинки, со смутными мыслями, нераскрытыми глазами и запертыми ртами. Монологичность? Какая же монологичность – общее сознание! Диалогичность? Что же это за диалогичность – полная нерасчлененность! Как люди получили завершенность? Их отделили друг от друга, оторвали, отрубили, им ножом прорезали едва намеченные ноздри, щели глаз и рта. И кто же сделал это? – Предок ящериц. А кто же больше похож на эмбриона, чем ящерица? Он и есть эмбрион – первый самостоятельно отделившийся от склеенных человеческих личинок. Вот он – автор – предок ящериц! Вот его первый жест – финкой по контуру! Освободиться и свой освобождать: раскрывать глаза, уши, ноздри, рты! Виждь, внемли, дыши, говори! И стоит автор, залитый кровью – своей и чужой. Нет, чужая кровь не то слово. Кровь своя и не своя. Здесь одновременность свойства; своя и не своя сразу, это одна кровь. И автор обращает к персонажу речь, и тот отвечает своими словами. Своими или автора? Знает автор, что ответит персонаж? Знает и не знает, и слова – автора и персонажа, свои и не свои. Нет свободы большей, чем авторская, нет большей несвободы. Релла манеринья! Бахтин записал эти слова как термин поэтики и, по обычаю литературоведения последних лет, закодировал его сокращением: Р. М. Этими буквами он и собирался теперь назвать свою статью. Однако, чем больше Бахтин думал об Р. М., тем явственнее понимал, что такая научная статья не может осуществиться. О трансгредиентности можно, ну, обругают за нерусское слово, но Р. М.! Нет, дело не в названии, конечно. Австралийский термин в нынешнее время не более странен, чем греческий или латинский. Дело в методе. Объяснить научными средствами свое открытие Бахтин не сумеет, да и с самого начала, как бы все это ни скрывалось за понятиями: «прототип», «транспонирование», «законы перевода», – занятия Максима имели паранаучный характер.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: