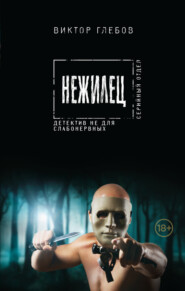По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Фаталист
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вернер сидел, прикрыв глаза и судорожно двигая кадыком. Пальцами он вцепился в подлокотники так, что костяшки побелели от напряжения.
– Но… они ведь кричать должны были, – неуверенно заметил наконец Григорий Александрович. – Неужто никто не услыхал?
– Орать должны были бы, – поправил его, открыв глаза, доктор.
– Значит, им заткнули рты?
Вернер пожал плечами.
– Кляпы я не обнаружил, следы на губах отсутствуют, однако иного объяснения не вижу.
Вернер был прав. Печорину не требовалось описывать, какие звуки издают люди, истязаемые кнутом. Он слышал их не единожды, с самого детства, часть которого провел в имении матери под Москвой. Там дворовых наказывали часто – чуть не каждую неделю, – и воздух оглашался стонами, криками, плачем и воем.
Однажды Григорий Александрович, будучи лет восьми от роду, видел человека, которого вели под руки после порки. Обнаженный по пояс, он блуждал мутным взглядом из стороны в сторону, будто не понимал, где находится. Спина его влажно блестела и была красна – кнут вырезал на ней множество пересекающихся линий, длинных и коротких. От человека пахло сырым мясом, потом и страхом. Из глаз текли слезы.
Зрелище было так ужасно, что Печорин, едва наказанный прошел мимо него, убежал прочь и спрятался в своей комнате.
Через некоторое время он услышал голос матушки. Она разыскивала его – должно быть, хотела спросить, выучен ли урок по латыни. Григорий Александрович замер, сидя на стуле возле кровати, надеясь, что она не заглянет к нему. Матушка не пришла. Зато она прислала слугу, который отвел Печорина в «дедов» кабинет, где обыкновенно пребывала матушка, когда занималась делами по хозяйству.
«Может, она и меня хочет наказать?» – думал Григорий Александрович, переминаясь с ноги на ногу и глядя на худую, хрупкую на вид женщину, сидевшую в «крылатом» кресле за большим письменным столом.
Матушка сняла пенсне, положила его на зеленое сукно и взглянула на сына. Взгляд ее был задумчив и внимателен. Она всегда, казалось, искала в собеседнике скрытые пороки, не делая исключения и для своего ребенка.
– Сядь, Григорий, – велела она.
Печорин послушно забрался в вольтеровское кресло, стоявшее напротив стола. В нем он чувствовал себя совсем маленьким. Было неуютно и тревожно. Хотелось, чтобы матушка поскорее спросила заученные слова и разрешила уйти. Но она никогда не торопилась. Все делала обстоятельно, вдумчиво.
– Мне сказали, ты видел, как секли Еремея, – проговорила она, глядя на сына. Голос у нее был грубоватый, низкий. – Это правда?
Григорий Александрович молча кивнул. Глаза у матушки были светлые, почти прозрачные. Они действовали на него магнетически – он не мог отвести от них взгляда.
– Ты еще мал, чтобы смотреть.
Тонкие сухие руки придвинули и раскрыли книгу в потрепанном переплете.
– Начнем. Переведи слово «acedia»…
Воспоминание пронеслось в голове Печорина мгновенно – ослепительная вспышка прошлого, череда образов, канувших в небытие. Все это исчезло, и исчезло давно. Мать, ее испытующий взгляд, грубый голос, глубокое кресло, в котором так легко было утонуть…
И еще: свист кнута, хлесткие удары и крики, а потом – бледное тельце, похожее на сломанную куклу, и остановившиеся, широко раскрытые глаза, уставившиеся в безучастное небо.
Печорин моргнул, чтобы очистить голову.
– Удары шашкой действительно были сильны?
– Как вам сказать… Тут все от умения зависит.
– Вот и Дмитрий Георгиевич то же самое сказал.
– Правильно сказал. Он в эспадронах знает толк – служил в кавалерии у нашего градоначальника, пока в Пятигорске не стал полицеймейстером. Все при том же Скворцове, естественно.
– А вы?
– Я? – Вернер, казалось, был удивлен. – А что я?
– Тоже, смотрю, разбираетесь в оружии.
– Пришлось повоевать, правда, недолго. Но кое-чему научился.
– Где воевали? – спросил Григорий Александрович, сделав вид, что оживился. – Может, мы били врагов плечом к плечу?
– Не думаю, – скептически протянул Вернер. – Сопровождал пару вылазок в горы. Не о чем и рассказывать.
– Понимаю, – кивнул Григорий Александрович и настаивать не стал. – Я, однако, не могу похвастать тем, что владею шашкой настолько, чтобы искромсать человека в куски. Хотелось бы убедиться собственными глазами, что подобное возможно и при том даже не требует особенной физической силы.
– Ну, вот я, положим, не силач. – Вернер заметно оживился, даже выпрямился в кресле. – Но запросто могу разрубить человека от плеча до пояса. По крайней мере, на глиняных чучелах получалось, – добавил он со смешком.
– До пояса? – удивился Григорий Александрович.
Вернер вдруг вскочил.
– Идемте! – воскликнул он, озираясь. – Я вам покажу! – Он схватил сюртук, тут же бросил и застыл в центре комнаты. – Во дворе участка есть чучела для отработки ударов. Вахлюев любит попрактиковаться и своих подчиненных муштрует. Вы вот что: сейчас идите и ждите меня на улице, а я оденусь.
Григорий Александрович поднялся.
– Это очень любезно, – сказал он, глядя на доктора, пытающегося привести себя в порядок.
– Да-да! – рассеянно кивнул тот, не глядя на собеседника. – Куда же я дел перчатки?
Григорий Александрович оставил хозяина дома в одиночестве и встал возле крыльца, закурив папироску. Мимо прошли несколько барышень в сопровождении молодых людей и почтенных матрон, следивших за тем, чтобы все происходило в рамках приличий. До Печорина донеслись веселый, хоть и приглушенный, смех и взволнованные мужские голоса.
Пахло розами и вишней. Все дышало идиллическим курортным покоем. Трудно было представить, чтобы в Пятигорске кого-то били кнутом и рубили шашкой. Тем более женщин. Интересно, если бы про это узнали отдыхающие…
Когда Вернер появился, его было не узнать. Одет он был опрятно и даже с претензией на элегантность: худощавые, жилистые маленькие руки обтягивали светло-желтые щегольские перчатки – совсем такие, как у самого Печорина, – а сюртук, галстук и жилет были черные.
– Молодежь прозвала меня Мефистофелем, – прокомментировал Вернер свой наряд, заметив, что Григорий Александрович окинул его любопытствующим взглядом. – Я делаю вид, что сержусь, но на самом деле прозвище льстит моему самолюбию. Глупости, но что поделаешь? Человеческая природа!
«А вы, доктор, и правда, романтик», – подумал Печорин.
Вдвоем они дошли до полицейского участка, более поздней пристройки, примыкавшей к зданию администрации, и свернули в низкую арку, в которой дежурил скучающий часовой. На Вернера и его спутника он только мельком взглянул и отвернулся. В зубах у него была зажата дымящаяся папироска – похоже, уставу в Пятигорске следовали не слишком строго.
– Знает меня, – прокомментировал доктор, когда они с Печориным вышли на большой двор, огороженный плотным дощатым забором.
По кругу медленно ехал на белой лошади офицер в адъютантском мундире. Животное нетерпеливо мотало головой и часто перебирало тонкими породистыми ногами. Круп покрывала дорогая, расшитая серебром попона с большими кистями по углам.
– Кто это? – спросил Григорий Александрович, пристально рассматривая седока.
– Захар Леонидович Карский, личный адъютант Скворцова. Хотите, я его окликну? – предложил Вернер и, не дожидаясь ответа, сложил руки рупором и закричал: – Захар! Давайте к нам!
– Но… они ведь кричать должны были, – неуверенно заметил наконец Григорий Александрович. – Неужто никто не услыхал?
– Орать должны были бы, – поправил его, открыв глаза, доктор.
– Значит, им заткнули рты?
Вернер пожал плечами.
– Кляпы я не обнаружил, следы на губах отсутствуют, однако иного объяснения не вижу.
Вернер был прав. Печорину не требовалось описывать, какие звуки издают люди, истязаемые кнутом. Он слышал их не единожды, с самого детства, часть которого провел в имении матери под Москвой. Там дворовых наказывали часто – чуть не каждую неделю, – и воздух оглашался стонами, криками, плачем и воем.
Однажды Григорий Александрович, будучи лет восьми от роду, видел человека, которого вели под руки после порки. Обнаженный по пояс, он блуждал мутным взглядом из стороны в сторону, будто не понимал, где находится. Спина его влажно блестела и была красна – кнут вырезал на ней множество пересекающихся линий, длинных и коротких. От человека пахло сырым мясом, потом и страхом. Из глаз текли слезы.
Зрелище было так ужасно, что Печорин, едва наказанный прошел мимо него, убежал прочь и спрятался в своей комнате.
Через некоторое время он услышал голос матушки. Она разыскивала его – должно быть, хотела спросить, выучен ли урок по латыни. Григорий Александрович замер, сидя на стуле возле кровати, надеясь, что она не заглянет к нему. Матушка не пришла. Зато она прислала слугу, который отвел Печорина в «дедов» кабинет, где обыкновенно пребывала матушка, когда занималась делами по хозяйству.
«Может, она и меня хочет наказать?» – думал Григорий Александрович, переминаясь с ноги на ногу и глядя на худую, хрупкую на вид женщину, сидевшую в «крылатом» кресле за большим письменным столом.
Матушка сняла пенсне, положила его на зеленое сукно и взглянула на сына. Взгляд ее был задумчив и внимателен. Она всегда, казалось, искала в собеседнике скрытые пороки, не делая исключения и для своего ребенка.
– Сядь, Григорий, – велела она.
Печорин послушно забрался в вольтеровское кресло, стоявшее напротив стола. В нем он чувствовал себя совсем маленьким. Было неуютно и тревожно. Хотелось, чтобы матушка поскорее спросила заученные слова и разрешила уйти. Но она никогда не торопилась. Все делала обстоятельно, вдумчиво.
– Мне сказали, ты видел, как секли Еремея, – проговорила она, глядя на сына. Голос у нее был грубоватый, низкий. – Это правда?
Григорий Александрович молча кивнул. Глаза у матушки были светлые, почти прозрачные. Они действовали на него магнетически – он не мог отвести от них взгляда.
– Ты еще мал, чтобы смотреть.
Тонкие сухие руки придвинули и раскрыли книгу в потрепанном переплете.
– Начнем. Переведи слово «acedia»…
Воспоминание пронеслось в голове Печорина мгновенно – ослепительная вспышка прошлого, череда образов, канувших в небытие. Все это исчезло, и исчезло давно. Мать, ее испытующий взгляд, грубый голос, глубокое кресло, в котором так легко было утонуть…
И еще: свист кнута, хлесткие удары и крики, а потом – бледное тельце, похожее на сломанную куклу, и остановившиеся, широко раскрытые глаза, уставившиеся в безучастное небо.
Печорин моргнул, чтобы очистить голову.
– Удары шашкой действительно были сильны?
– Как вам сказать… Тут все от умения зависит.
– Вот и Дмитрий Георгиевич то же самое сказал.
– Правильно сказал. Он в эспадронах знает толк – служил в кавалерии у нашего градоначальника, пока в Пятигорске не стал полицеймейстером. Все при том же Скворцове, естественно.
– А вы?
– Я? – Вернер, казалось, был удивлен. – А что я?
– Тоже, смотрю, разбираетесь в оружии.
– Пришлось повоевать, правда, недолго. Но кое-чему научился.
– Где воевали? – спросил Григорий Александрович, сделав вид, что оживился. – Может, мы били врагов плечом к плечу?
– Не думаю, – скептически протянул Вернер. – Сопровождал пару вылазок в горы. Не о чем и рассказывать.
– Понимаю, – кивнул Григорий Александрович и настаивать не стал. – Я, однако, не могу похвастать тем, что владею шашкой настолько, чтобы искромсать человека в куски. Хотелось бы убедиться собственными глазами, что подобное возможно и при том даже не требует особенной физической силы.
– Ну, вот я, положим, не силач. – Вернер заметно оживился, даже выпрямился в кресле. – Но запросто могу разрубить человека от плеча до пояса. По крайней мере, на глиняных чучелах получалось, – добавил он со смешком.
– До пояса? – удивился Григорий Александрович.
Вернер вдруг вскочил.
– Идемте! – воскликнул он, озираясь. – Я вам покажу! – Он схватил сюртук, тут же бросил и застыл в центре комнаты. – Во дворе участка есть чучела для отработки ударов. Вахлюев любит попрактиковаться и своих подчиненных муштрует. Вы вот что: сейчас идите и ждите меня на улице, а я оденусь.
Григорий Александрович поднялся.
– Это очень любезно, – сказал он, глядя на доктора, пытающегося привести себя в порядок.
– Да-да! – рассеянно кивнул тот, не глядя на собеседника. – Куда же я дел перчатки?
Григорий Александрович оставил хозяина дома в одиночестве и встал возле крыльца, закурив папироску. Мимо прошли несколько барышень в сопровождении молодых людей и почтенных матрон, следивших за тем, чтобы все происходило в рамках приличий. До Печорина донеслись веселый, хоть и приглушенный, смех и взволнованные мужские голоса.
Пахло розами и вишней. Все дышало идиллическим курортным покоем. Трудно было представить, чтобы в Пятигорске кого-то били кнутом и рубили шашкой. Тем более женщин. Интересно, если бы про это узнали отдыхающие…
Когда Вернер появился, его было не узнать. Одет он был опрятно и даже с претензией на элегантность: худощавые, жилистые маленькие руки обтягивали светло-желтые щегольские перчатки – совсем такие, как у самого Печорина, – а сюртук, галстук и жилет были черные.
– Молодежь прозвала меня Мефистофелем, – прокомментировал Вернер свой наряд, заметив, что Григорий Александрович окинул его любопытствующим взглядом. – Я делаю вид, что сержусь, но на самом деле прозвище льстит моему самолюбию. Глупости, но что поделаешь? Человеческая природа!
«А вы, доктор, и правда, романтик», – подумал Печорин.
Вдвоем они дошли до полицейского участка, более поздней пристройки, примыкавшей к зданию администрации, и свернули в низкую арку, в которой дежурил скучающий часовой. На Вернера и его спутника он только мельком взглянул и отвернулся. В зубах у него была зажата дымящаяся папироска – похоже, уставу в Пятигорске следовали не слишком строго.
– Знает меня, – прокомментировал доктор, когда они с Печориным вышли на большой двор, огороженный плотным дощатым забором.
По кругу медленно ехал на белой лошади офицер в адъютантском мундире. Животное нетерпеливо мотало головой и часто перебирало тонкими породистыми ногами. Круп покрывала дорогая, расшитая серебром попона с большими кистями по углам.
– Кто это? – спросил Григорий Александрович, пристально рассматривая седока.
– Захар Леонидович Карский, личный адъютант Скворцова. Хотите, я его окликну? – предложил Вернер и, не дожидаясь ответа, сложил руки рупором и закричал: – Захар! Давайте к нам!
Другие электронные книги автора Виктор Глебов
Дыхание зла




 4.6
4.6
Нежилец




 4.6
4.6