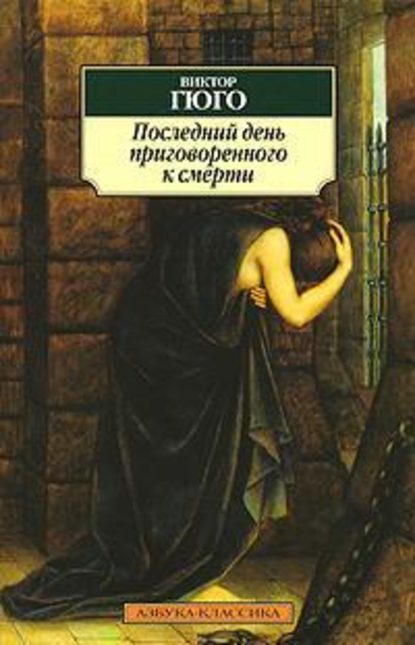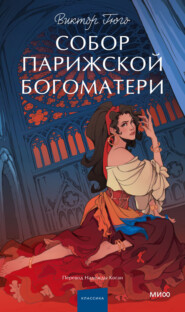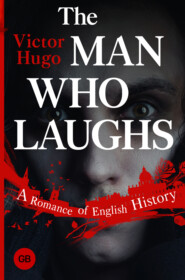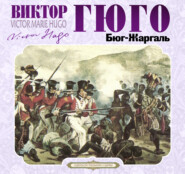По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний день приговоренного к смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молодой человек у окна, что-то отмечавший карандашом в записной книжке, спросил у одного из тюремщиков, как называется то, что происходит.
– Туалет, приговоренного. – ответил тюремщик.
Я понял, что завтра это будет описано в газетах.
Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, – единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, – на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.
От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.
– Простите, сударь! – сказал он. – Неужели я задел вас?
Палачи – люди обходительные.
А толпа снаружи ревела все громче.
Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.
– Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, – ответил я, стараясь говорить твердым голосом.
Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.
Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.
Тут ко мне приблизился священник с распятием.
– Идемте, сын мой, – сказал он.
Помощники палача подхватили меня под мышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было два колена.
В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, – низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив – взвод солдат в боевом порядке; налево – задняя стенка телеги с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.
Этой минуты я боялся и для нее берег все свои силы. Я прошел три шага и появился на пороге.
– Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! – завопила толпа.
И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.
Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.
Толстяк в треуголке взошел первым.
– Здравствуйте, господин Сансон! – кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку. За ним последовал один из подручных.
– Здорово, Вторник! – опять закричали ребятишки.
Оба они сели на переднюю скамейку.
Наступил мой черед. Я взошел довольно твердой поступью.
– Молодцом держится! – заметила женщина, стоявшая около жандармов.
Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.
Они и здесь стараются щегольнуть человеколюбием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.
Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.
Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула к мосту Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что, казалось, вот-вот сотрясется земля.
На этом повороте конный пикет присоединился к конвою.
– Шапки долой! Шапки долой! – кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.
Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:
– С них – шапки, с меня – голову.
Телега ехала шагом.
Набережная Цветов благоухала – сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.
Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, расположены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливцами, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабатчиков сегодня удачный день.
Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:
– Кому место?
Злоба против этой толпы овладела мной. Мне захотелось крикнуть:
– Кому уступить мое?
А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.
При въезде на мост Менял я случайно посмотрел направо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, ощетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника, что это за башня.
– Святого Якова-на-Бойнях, – ответил вместо него палач.
Не могу постичь, каким образом, несмотря на туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.
Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, – последний проблеск тщеславия! И постарался забыться, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.
Я потянулся к распятию и приложился.
– Господи, смилуйся надо мной! – прошептал я, стараясь углубиться в молитву.
Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.
– Вы дрожите от холода, сын мой? – спросил священник.
– Туалет, приговоренного. – ответил тюремщик.
Я понял, что завтра это будет описано в газетах.
Вдруг один из подручных стащил с меня куртку, а другой взял мои опущенные руки, отвел их за спину, я почувствовал, как вокруг моих запястий обвивается веревка. Тем временем второй снимал с меня галстук. Батистовая сорочка, – единственный клочок, уцелевший от того, кем я был прежде, – на миг привела его в замешательство; потом он принялся срезать с нее ворот.
От этой жуткой предусмотрительности, от прикосновения к шее холодной стали локти мои дернулись и приглушенный вопль вырвался у меня. Рука палача дрогнула.
– Простите, сударь! – сказал он. – Неужели я задел вас?
Палачи – люди обходительные.
А толпа снаружи ревела все громче.
Толстяк с прыщавым лицом предложил мне понюхать платок, смоченный уксусом.
– Благодарю вас, я чувствую себя хорошо, – ответил я, стараясь говорить твердым голосом.
Тогда один из подручных нагнулся и надел мне на ноги петлю из тонкой бечевки, стянув ее настолько, чтобы я мог делать мелкие шажки. Конец этой веревки он соединил с той, которой были связаны руки. Потом толстяк накинул мне на плечи куртку и связал рукава у подбородка.
Все, что полагалось сделать, было пока что сделано.
Тут ко мне приблизился священник с распятием.
– Идемте, сын мой, – сказал он.
Помощники палача подхватили меня под мышки. Я встал и пошел. Ноги у меня были как ватные и подгибались, словно в каждой было два колена.
В этот миг наружная дверь распахнулась. Бешеный рев, холодный воздух и дневной свет хлынули ко мне. Из-под темного свода я, сквозь сетку дождя, сразу увидел все: тысячеголовую орущую толпу, запрудившую большую лестницу Дворца правосудия; направо, в уровень со входом, ряд конных жандармов, – низенькая дверца позволяла мне видеть только лошадиные ноги и груди; напротив – взвод солдат в боевом порядке; налево – задняя стенка телеги с приставленной к ней крутой лесенкой. Страшная картина, и тюремная дверь была для нее достойной рамой.
Этой минуты я боялся и для нее берег все свои силы. Я прошел три шага и появился на пороге.
– Вот он! Вот! Выходит! Наконец-то! – завопила толпа.
И те, кто был поближе, захлопали в ладоши. При всей любви к королю его бы не встретили так восторженно.
Телега была самая обыкновенная, запряженная чахлой клячей, а на вознице был синий в красных разводах фартук, какие носят огородники в окрестностях Бисетра.
Толстяк в треуголке взошел первым.
– Здравствуйте, господин Сансон! – кричали ребятишки, взгромоздившиеся на решетку. За ним последовал один из подручных.
– Здорово, Вторник! – опять закричали ребятишки.
Оба они сели на переднюю скамейку.
Наступил мой черед. Я взошел довольно твердой поступью.
– Молодцом держится! – заметила женщина, стоявшая около жандармов.
Эта жестокая похвала придала мне силы. Священник сел рядом со мной. Меня посадили на заднюю скамейку, спиной к лошади. Такая заботливость привела меня в содрогание.
Они и здесь стараются щегольнуть человеколюбием. Мне захотелось посмотреть, что делается кругом. Жандармы впереди, жандармы позади, а дальше толпы, толпы и толпы; одни сплошные головы на площади.
Пикет конной жандармерии ожидал меня у ограды Дворца правосудия. Офицер скомандовал. Телега вместе с конвоем тронулась в путь, вой черни как будто подталкивал ее.
Мы выехали из ворот. В ту минуту, когда телега свернула к мосту Менял, площадь разразилась криками от мостовой до крыш, а набережные и мосты откликнулись так, что, казалось, вот-вот сотрясется земля.
На этом повороте конный пикет присоединился к конвою.
– Шапки долой! Шапки долой! – кричали тысячи голосов. Прямо как для короля.
Тут и я рассмеялся горьким смехом и сказал священнику:
– С них – шапки, с меня – голову.
Телега ехала шагом.
Набережная Цветов благоухала – сегодня базарный день. Продавщицы ради меня побросали свои букеты.
Напротив, немного подальше квадратной башни, образующей угол Дворца правосудия, расположены кабачки; верхние помещения их были заполнены счастливцами, получившими такие хорошие места. Особенно много было женщин. У кабатчиков сегодня удачный день.
Люди платили за столы, за стулья, за доски, за тележки. Все кругом ломилось от зрителей. Торговцы человеческой кровью кричали во всю глотку:
– Кому место?
Злоба против этой толпы овладела мной. Мне захотелось крикнуть:
– Кому уступить мое?
А телега все подвигалась. Позади нас толпа рассеивалась, и я помутившимся взглядом смотрел, как она собирается снова на дальнейших этапах моего пути.
При въезде на мост Менял я случайно посмотрел направо и на противоположном берегу заметил над домами черную башню, которая стояла одиноко, ощетинясь скульптурными украшениями, а на верхушке ее мне были видны в профиль два каменных чудовища. Сам не знаю, почему я спросил у священника, что это за башня.
– Святого Якова-на-Бойнях, – ответил вместо него палач.
Не могу постичь, каким образом, несмотря на туман и частый мутный дождь, заволакивавший воздух точно сеткой паутины, до мельчайших подробностей видел все, что происходило вокруг. И каждая подробность была мучительна по-своему. Есть переживания, для которых не хватает слов.
Около середины моста Менял, настолько запруженного толпой, что при всей его ширине мы едва плелись, мною овладел безудержный ужас. Я испугался, что упаду в обморок, – последний проблеск тщеславия! И постарался забыться, ни на что не смотреть, ни к чему не прислушиваться, кроме слов священника, которые едва долетали до меня сквозь шум и крик.
Я потянулся к распятию и приложился.
– Господи, смилуйся надо мной! – прошептал я, стараясь углубиться в молитву.
Но от каждого толчка телеги меня встряхивало на жестком сиденье. Потом вдруг я ощутил пронизывающий холод, одежда промокла на мне насквозь, дождь поливал мою остриженную голову.
– Вы дрожите от холода, сын мой? – спросил священник.