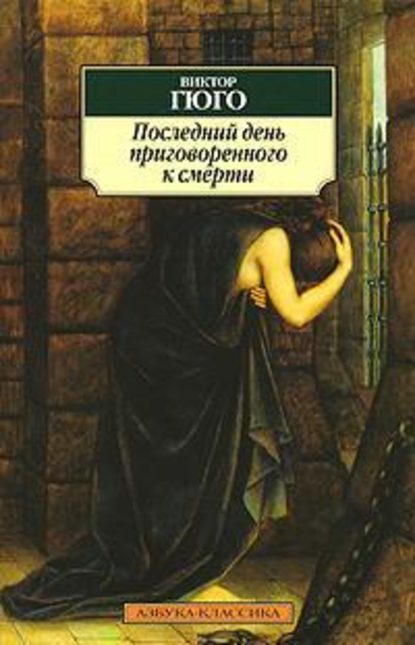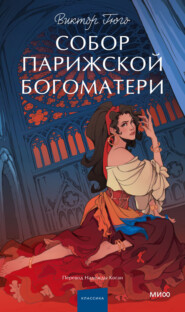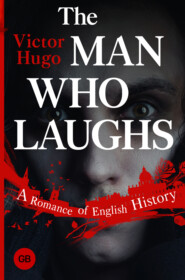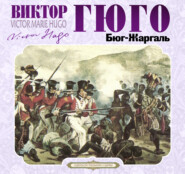По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Последний день приговоренного к смерти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы в гостиной. Ни души. Портреты неподвижно висят в золоченых рамах на красных обоях. Мне показалось, что дверь из гостиной в столовую приотворена.
Мы входим в столовую; осматриваем ее. Я иду первым. Дверь на лестницу заперта, окна тоже. Подойдя к печке, я заметил, что бельевой шкаф открыт и что его распахнутая дверца заслоняет угол комнаты.
Это меня озадачило. Мы подумали, что за дверцей кто-то прячется.
Я потянул рукой дверцу; она не поддалась. Я удивился и дернул сильнее; дверца захлопнулась, и мы увидели сгорбленную старуху, стоящую неподвижно, с опущенными руками, с закрытыми глазами, словно приклеенную к углу. В этом было что-то невыразимо страшное, волосы и сейчас, при одном воспоминании, встают у меня дыбом.
Я спросил старуху:
– Что вы тут делаете? Она не ответила. Я спросил:
– Кто вы?
Она не ответила, не пошевелилась, не открыла глаз.
Друзья решили:
– Наверно, она сообщница тех, кто пришел сюда с дурными намерениями; остальные, услышав наши шаги, убежали, а она не успела и спряталась в углу.
Я снова принялся допрашивать ее – она не отвечала, не двигалась, не глядела.
Кто-то из нас толкнул ее – она упала.
Она рухнула, как кусок дерева, как безжизненный предмет.
Мы попытались сдвинуть ее ногой, потом двое из нас подняли ее и снова приставили к стене. Она не подавала признаков жизни. Ей кричали прямо в ухо. Она оставалась нема, словно ничего не слышала. Мы уже стали терять терпение, к ужасу примешивалась злоба. Кто-то посоветовал мне:
– Поднесите ей под нос свечу. Я поднес зажженный фитилек к ее лицу. Она полуоткрыла один глаз, тусклый, страшный, незрячий. Я отвел свечу и сказал:
– Ага! Наконец-то! Будешь теперь отвечать, старая колдунья? Кто ты?
Глаз закрылся, будто сам собой.
– Ну это уж наглость! – хором закричали мои друзья. – Давайте, давайте еще свечу! Заставьте ее отвечать!
Я снова поднес свечу к лицу старухи.
И вот она медленно открыла оба глаза, по очереди оглядела нас всех, потом, внезапно нагнувшись, задула свечу, дохнув на нее ледяным дыханием. В ту же секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку.
Я проснулся, весь дрожа, обливаясь холодным потом.
Добрый священник сидел в ногах моей кровати и читал молитвы.
– Долго я спал? – спросил я.
– Вы проспали час, сын мой, – ответил он. – К вам привели дочку. Она дожидается в соседней комнате. Я не позволил вас будить.
– Моя дочка здесь! – вскричал я. – Приведите ее ко мне.
XLIII
Она такая свеженькая, розовенькая, у нее огромные глаза, она красотка!
На нее надели платьице, которое очень ей к лицу.
Я схватил ее, поднял на руки, посадил к себе на колени, целовал ее головку.
Почему она без мамы? – Мама больна, бабушка тоже больна. Так я и думал.
Она удивленно смотрела на меня и безропотно терпела ласки, объятия, поцелуи, только время от времени с беспокойством поглядывала на свою няню, которая плакала в уголке.
Наконец я нашел в себе силы заговорить.
– Мари! Крошка моя Мари! – прошептал я и крепко прижал ее к груди, из которой рвались рыдания. Она слабо вскрикнула.
– Мне больно, не надо так, дядя, – жалобно сказала она.
Дядя! Бедная детка, она почти год не видела меня. Она забыла мое лицо, интонации голоса; да и как меня узнать, обросшего бородой, бледного, в такой одежде? Значит, она уже не помнит меня! А ведь только в ее памяти мне и хотелось бы жить! Значит, я уже не отец! Мне не суждено больше слышать это слово детского языка, такое нежное, что оно не может перейти в язык взрослых, – слово «папа»!
Только бы еще раз, один раз услышать его из этих уст – вот все, чего я прошу за сорок лет жизни, которые отнимают у меня!
– Ну посмотри же, Мари, разве ты меня не помнишь. – спросил я, соединяя обе ее ручонки в своих руках.
Она подняла на меня прекрасные черные глазки и сказала:
– Совсем не помню!
– Посмотри получше, – настаивал я. – Неужели ты не знаешь, кто я?
– Знаю, вы чужой дядя.
Как это ужасно, когда единственное существо на свете, которое любишь беззаветно, любишь всей силой своей любви, смотрит на тебя, говорит с тобой, отвечает тебе и не узнает тебя! Ты жаждешь утешения только от него, а от него одного скрыто, что ты нуждаешься в утешении, потому что ты должен умереть!
– У тебя есть папа, Мари? – спросил я.
– Есть, – ответила девочка.
– Где же он?
Ее большие глаза удивленно посмотрели на меня.
– А вы разве не знаете? Он умер.
Она опять вскрикнула – я едва не уронил ее.
– Умер! – повторил я. – А ты знаешь. Мари, что значит – умер?
– Знаю, он в земле и на небе. – И добавила от себя: – Я каждое утро и каждый вечер молюсь за него боженьке у мамы на коленях.
Мы входим в столовую; осматриваем ее. Я иду первым. Дверь на лестницу заперта, окна тоже. Подойдя к печке, я заметил, что бельевой шкаф открыт и что его распахнутая дверца заслоняет угол комнаты.
Это меня озадачило. Мы подумали, что за дверцей кто-то прячется.
Я потянул рукой дверцу; она не поддалась. Я удивился и дернул сильнее; дверца захлопнулась, и мы увидели сгорбленную старуху, стоящую неподвижно, с опущенными руками, с закрытыми глазами, словно приклеенную к углу. В этом было что-то невыразимо страшное, волосы и сейчас, при одном воспоминании, встают у меня дыбом.
Я спросил старуху:
– Что вы тут делаете? Она не ответила. Я спросил:
– Кто вы?
Она не ответила, не пошевелилась, не открыла глаз.
Друзья решили:
– Наверно, она сообщница тех, кто пришел сюда с дурными намерениями; остальные, услышав наши шаги, убежали, а она не успела и спряталась в углу.
Я снова принялся допрашивать ее – она не отвечала, не двигалась, не глядела.
Кто-то из нас толкнул ее – она упала.
Она рухнула, как кусок дерева, как безжизненный предмет.
Мы попытались сдвинуть ее ногой, потом двое из нас подняли ее и снова приставили к стене. Она не подавала признаков жизни. Ей кричали прямо в ухо. Она оставалась нема, словно ничего не слышала. Мы уже стали терять терпение, к ужасу примешивалась злоба. Кто-то посоветовал мне:
– Поднесите ей под нос свечу. Я поднес зажженный фитилек к ее лицу. Она полуоткрыла один глаз, тусклый, страшный, незрячий. Я отвел свечу и сказал:
– Ага! Наконец-то! Будешь теперь отвечать, старая колдунья? Кто ты?
Глаз закрылся, будто сам собой.
– Ну это уж наглость! – хором закричали мои друзья. – Давайте, давайте еще свечу! Заставьте ее отвечать!
Я снова поднес свечу к лицу старухи.
И вот она медленно открыла оба глаза, по очереди оглядела нас всех, потом, внезапно нагнувшись, задула свечу, дохнув на нее ледяным дыханием. В ту же секунду три острых зуба в темноте вонзились мне в руку.
Я проснулся, весь дрожа, обливаясь холодным потом.
Добрый священник сидел в ногах моей кровати и читал молитвы.
– Долго я спал? – спросил я.
– Вы проспали час, сын мой, – ответил он. – К вам привели дочку. Она дожидается в соседней комнате. Я не позволил вас будить.
– Моя дочка здесь! – вскричал я. – Приведите ее ко мне.
XLIII
Она такая свеженькая, розовенькая, у нее огромные глаза, она красотка!
На нее надели платьице, которое очень ей к лицу.
Я схватил ее, поднял на руки, посадил к себе на колени, целовал ее головку.
Почему она без мамы? – Мама больна, бабушка тоже больна. Так я и думал.
Она удивленно смотрела на меня и безропотно терпела ласки, объятия, поцелуи, только время от времени с беспокойством поглядывала на свою няню, которая плакала в уголке.
Наконец я нашел в себе силы заговорить.
– Мари! Крошка моя Мари! – прошептал я и крепко прижал ее к груди, из которой рвались рыдания. Она слабо вскрикнула.
– Мне больно, не надо так, дядя, – жалобно сказала она.
Дядя! Бедная детка, она почти год не видела меня. Она забыла мое лицо, интонации голоса; да и как меня узнать, обросшего бородой, бледного, в такой одежде? Значит, она уже не помнит меня! А ведь только в ее памяти мне и хотелось бы жить! Значит, я уже не отец! Мне не суждено больше слышать это слово детского языка, такое нежное, что оно не может перейти в язык взрослых, – слово «папа»!
Только бы еще раз, один раз услышать его из этих уст – вот все, чего я прошу за сорок лет жизни, которые отнимают у меня!
– Ну посмотри же, Мари, разве ты меня не помнишь. – спросил я, соединяя обе ее ручонки в своих руках.
Она подняла на меня прекрасные черные глазки и сказала:
– Совсем не помню!
– Посмотри получше, – настаивал я. – Неужели ты не знаешь, кто я?
– Знаю, вы чужой дядя.
Как это ужасно, когда единственное существо на свете, которое любишь беззаветно, любишь всей силой своей любви, смотрит на тебя, говорит с тобой, отвечает тебе и не узнает тебя! Ты жаждешь утешения только от него, а от него одного скрыто, что ты нуждаешься в утешении, потому что ты должен умереть!
– У тебя есть папа, Мари? – спросил я.
– Есть, – ответила девочка.
– Где же он?
Ее большие глаза удивленно посмотрели на меня.
– А вы разве не знаете? Он умер.
Она опять вскрикнула – я едва не уронил ее.
– Умер! – повторил я. – А ты знаешь. Мари, что значит – умер?
– Знаю, он в земле и на небе. – И добавила от себя: – Я каждое утро и каждый вечер молюсь за него боженьке у мамы на коленях.